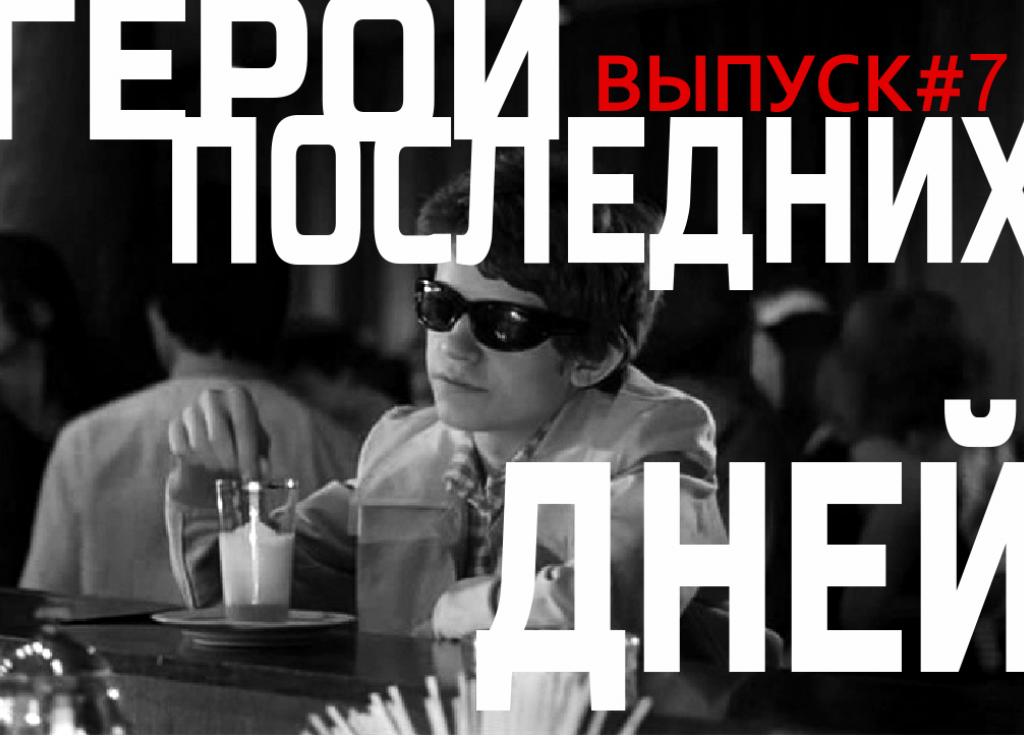27.12.23 08:12

До-Времени!
Конец 19 и начало века 20 было временем переломным. Речь идет не о войнах, революциях, распадах последних классических империй на территории Европы, дело не в количестве жертв, которые были принесены в результате различных конфликтов. А том, что это была эпоха кризиса мировоззрений, кризиса убеждений и ожиданий. Начиная с конца 18 века политики, ученые, в целом научные достижения и прогресс во многих сферах жизнедеятельности человечества (химия, физика, энергетика, транспорт, связь и пр.) обещали скорейшего и всеобщего благоденствия. Однако, прекрасное будущее, рай на земле, обещанные еще утопистами, такими как Жан-Батиист Жозеф Фурье, Роберт Оуэн, Этьен Кабе и др. несмотря на все попытки построить «новые города» с новыми отношениями не наступали. Укоренившаяся в сознании европейцев и американцев мысль или идея о том, что здесь на земле, в течение жизни одного-трех поколений возможно построение «земного рая», вместо обещанного церковью еще пару тысяч лет назад «рая небесного» можно называть утопией Модерна. Именно эта идеология, вера в «светлое будущее», вера в безграничность человеского разума, во всемогущество науки и техники, поддерживала европейской дом, всех передовых мыслителей и деятелей истории европейского континента на протяжении последних ста или двухсот лет. Можно такой отправной точкой взять французскую революцию 1789 года или изобретения английских инженеров, бизнесменов, торговцев в области замены ручного труда машинами и автоматами. Я говорю прежде всего об изобретениях Харгривса, Аркрайта, Уатта. Век парового двигателя нагнал густой дым/туман, который заволок горизонты, играя с воображением и создавая в клубах невидимые доселе фантазмы, оптическо-идеологические иллюзии или утопии. О клубах дыма и тумана мы еще поговорим.
Проблема заключалась в том, что уже почти на протяжение трех-четырех поколений европейцев обещанные «фаланстеры», «гармонии», «хрустальные дворцы» и прочие земные вместилища райской жизни не наступали.[1] А все эксперименты, как в Старом Свете, так и в Новом, заканчивались неудачей. Отсюда увлечение многими во второй половине 19 века идеями Маркса и большие надежды на русскую революцию, которые возлагали левые демократические силы Европы. Век пара и паровозов сменился атомным и молекулярным, а человечество до последнего болело «позитивизмом». Это фон, исторической фон, на котором появилась и сужденно было действовать герою этого очерка, а точнее, героине. Речь идет о поэтессе Ольге Берггольц.
Ольга, как и все прекрасные люди начала 20 века начинала свой путь, фиксировала свое самосознание и свою исходную точку в Истории на дороге от религии, проще, от христианской веры в «царство небесное», к вере в «рай земной», который люди способны построить самостоятельно.
«Пели - унисон, но нельзя сказать, чтобы хорошо. Однако все пели с чувством и верой; их соединяло одно, и люди чувствовали себя братьями... Приложились к иконам, батюшка покропил святой водой, Многие женщины взяли воды в захваченные в часовню сосуды, - и вышли из храма. Молебен кончился; «який»-то мужичок, с истой, неторопливой бородкой, звонил в единственный колокольчик, повешенный у часовни. Лицо мужичка было важное и строгое.»[2]
Это 1923 год. Ольга родилась в 1910 году, за четыре года до Первой мировой войны и за семь лет до русской революции. Коммунистический или большевистский строй, в котором она неожиданно оказалась не трогал ее до тринадцати лет. До этого возраста она находилась под «опекой» домашних или семейных убеждений. Основа их — христианство или православная вера. Подросток Оля еще верит, что «царство небесное» необходимо заслужить верой и делами. Ведь вера без дел мертва. Коме этого, в приведенном выше отрывке четко фиксируется, что революция и гражданская война не нанесла еще необратимого урона крестьянству (основе населения империи) и только насилие и террор большевиков свернули голову крестьянству России. Но пока, на момент, написание ольгиных строк вводились ленинским указом новые правила в экономике, получившие название НЭПа (новая экономическая политика). Берггольц часто пишет и упоминает продукты питания, обильные трапезы, что может говорить о том, что эта политика большевиков приносила свои плоды и крестьянство после почти десяти лет грабежа и междуусобной войны, вновь укрепилось. Это был опасный путь для большевиков. Две веры, а точнее отсуствие веры среди крестьян и мужиков в коммунизм было опасно для Ленина и Ко. Необходима было новая вера, новые идеалы, новый «иконостас». Нужен был новый концепт вознаграждения и большевики его придумали, точнее использовали «наработки» предыдущих 100-150 лет. Вера в Модерн, в счастливую жизнь и почти райское существование и не после смерти, а уже при жизни ближайшего поколения. Вот они основые коммунизма и последней Утопии. Ничего нового и ничего другого!
Через год Оля Берггольц запишет в своем «дневничке»:
«Елки мне совсем не охота. Вообще в данную минуту мне абсолютно ничего не хочется. Одно огромное желанье - поскорей записаться в комсу. Хочу к Октябрю быть комсомолкой. Ах! Как все глупо...»[3]
Это 1924 год. Как признавалась Ольга смерть Ленина в январе этого года непосредственно отразилась на ее мировоззрение, что говорит о том, что большевистские лидеры уже занимали в сознание людей освободившиеся ниши ниспровегнутых святых. Помимо новой веры в «земной рай», в комсомол ее подталкивала и сложная обстановка в семье. Мать долгие годы жила в семье и терпела измены мужа, отца Ольги. Будущая поэтесса не хотела повторить судьбу своей матери, поэтому искала новые пути для себя, как для женщины.
Маленькая ремарка. В этой же тетрадке Ольга пишет:
«Завтра поедем к одной жидовке, приглашала меня сотрудничать в нарождающемся журнале. Что ж, попробуем. Но выйдет ли что? Надеюсь.»[4]
Это тоже 1924 год. И таких записей про «жидов» у нее довольно много. Как видно «новая вера» не мешала по-старому относиться к евреям Российской империи. Это своего рода народный вид спорта, который глубоко укоренился в сознание жителейизвестной части суши и, кроме того, глубоко укоренился в виде литературной традиции начиная с Пушкина, продолжая Достоевским и далее, через века...
Вернемся к главной теме этого раздела. Практически вся середина и конец 1920 годов проходит у подростка Ляли, как ее звали дома, на подъеме. Она старательно учится в школе, у нее куча дополнительных нагрузок помимо прямого учебного процесса. Это и заседания литкружка, и выпуск стенгазеты, и прочие пионерские обязанности. Девочка поочередно влюбляется в своих учителей, а потом и в заграничных киноактеров, например, в Дугласа Фербенкса. Как сказали бы сегодняшние детские психиатры: абсолютно здоровый ребенок.
«Дуглас, зачем я не Мери Пикфорд. Зачем я не любима тобою... Нет, мои мечты не пошлы!.. Нет, они - единственное утешение мое... Люблю тебя, Дуглас! Люблю тебя, мечта моя!.. А ты и не знаешь... Люблю тебя!.. Хочу твоих ласок...»[5]
Это пишет девочка в 1925 году, будущий автор «Ленинградской поэмы» и фразы ставшей крылатой: "никто не забыт, ничто не забыто". Ничто земное ей не чуждо, в ней борятся «мещанское», как она бы сама выразилась, сознание и вера в абсолют коммунистической идеи. Это противоречие впитанное ею из воздуха эпохи останется с нею навсегда. Верить в христианство и верить в коммунизм, обожествлять Сталина и знать обо всех ужасах сталинского режима, считать себя советским писателем и знать, что это за особи, «инженеры человеческих душ» в рамках советского режима и, чувствовать на себе диктат союза писателей СССР и т.д. В 1925 году она еще способна на протест!
«Да нет, разве всю жизнь, всю жизнь так?? Серенькая, узенькая, с небольшими бурями, с бледными радостями, с мизерной работой, с коротенькой, чахлой любовью к незначительному человеку!! Да нет же, нет! Нет, нет и нет! 100 раз нет! 1000 раз нет! Миллион! Я не соглашусь так, ни за что!! Я хочу много бороться и работать! Много счастья и радости!»[6]
Вот же он протест против суеты, против судьбы матери и, главное, предвиденной и предсказанной жизни. Пусть пока он осуществляется в контексте любви к мужчине, к актеру Фербенксу. Это притяжение модерна, это вера в собственные силы и талант и, соответственно, вера в завтрашний день на земле — это вера в Утопию!
В том же году она фиксирует: «Он заставляет меня писать из-за денег…»[7] Он — это отец. Противоречивая фигура для Ольги. Он и человек творческий, и общительный, и любил петь, и любил театр. Одновременно любил выпить, хорошо поесть, приударить за женщинами. Его измены были известны все семьи и Ольга, осуждая отца, сама повторит его путь. И писать ради денег она тоже научится.
Уже к концу 1920 – началу 1930 годов тон записок меняется. Вероятно это связано с тем, что она впервые получает возможность путешествовать по стране, по самым далеким, кавказским, азиатским ее уголкам. Она работает корреспондентом в газете. То, что она увидит не обрадует ее. Правда до этого был болезненный разрыв с первым мужем и мужчиной поэтом Борисом Корниловым, от этого брака у Берггольц росла первая дочь — Ирина. Но она не одинока, почти сразу Ольга начинает крепко любить и жить с журналистом и литературоведом Николаем Молчановым, от которого скоро появится у нее вторая дочь Майя.
18 января 1932 года она записывает в дневнике:
«Пустой день. Ходьба, которая меня доводит до озлобления, по магазинам, где ничего дельного нет, все какая-то баклажанная икра, парфюмерия, масса ненужных безвкусных вещей, дурно сделанных, а нужных, простых - нет или за ними обидные, нудные хвосты. Народ какой-то жадный, тупой. Ясно, вполне закономерна эта жадность, желание простых, хорошо сделанных дешевых галош, ботинок, белья, чтоб без очереди, без давки, без траты нужных нервов на такую глупую вещь, как приобретение галош. Очень заждались этого люди, и не только обыватели, очень нужно - поскорее - эти вещи, главное хорошие. Такое тяжелое, досадное чувство поднимается от сознания - какой брак прет, сколько позорного браку дает наш завод! Волосы шевелятся. А эти кривые уродливые туфли, паршивая жратва в электросиловской столовке, сквернейшая бумага, текущие через пятидневку - галоши ... Очень правильно, что налегли на качество, уж верно - лучше меньше, но лучше. Почему это - такая волна браку? Общие объяснения есть, но как-то уж не удовлетворяют эти общие объяснения...»[8]
Найдутся не только причины брака, но и виновные в том, что всеобщее благоденствие, большевистский рай все никак не приходит. В конце этого же года Ольга записывает с еще большей откровенностью:
«Люди живут плохо. Плохо живут люди. Колька приехал с этим рефреном, а я его оспаривала. Верно, верно. Люди живут плохо! Я точно закрываю глаза, рукой, в утомлении, говоря это. Тяжело жить. Злюсь и раздражаюсь, и недоумеваю.»[9]
Удивительно то, что советские люди могли так трезво мыслить и не боятся заносить крамольные мысли в дневник. Однако неискоренимая вера в «земной рай» не могла быть поколеблена нехваткой товаров и их плохим качеством. В конце концов каждая вера проверяется на практике и грош цена тому, кто при первых трудностях готов открещиваться от вчерашних идеалов и убеждений.
Когда Ольга была школьницей, ей легко было обвинить Антанту, белогвардейцев и т.д. во всех бедах, что она однажды и сделала: «Это все из-за Колчака, - пояснила я, - нам в классе говорили! И голод, и все, все...»[10] Видимо сработал принцип: у русского народа всегда все беды из-за кого-то, из-за внешнего врага. А сам он не виноват. Этот Ольгин «подвиг» пояснения пытался повторить безымянный матрос-большевик во время встречи с английским фантастом Гербертом Уэллсом, после его путешествия по стране, разрушенной большевиками с одной стороны и сторонниками старых порядков с другой:
«Писатель упоминает также, что испытывал острое раздражение из-за ответов матроса, который, выслушав «мою длинную едкую речь, весьма почтительно отвечал одной, стереотипной, очень знаменательной для современного настроения умов в России, фразой : «Видите ли,- говорил он вежливо,блокада! Блокада четырнадцати держав... » И автору «Борьбы миров», описавшему войну людей и марсиан, непонятно было, что вкладывал матрос в эту «стереотипную » вежливую фразу: «Видите ли, блокада...»[11]
Это еще не было «блокады Ленинграда». А сегодня фраза про блокаду приобретает просто символическое значение как причина отставания от Запада. Вечная блокада такая получается.
«10/1-33. Сижу поздно. Все спят. Дочки и Колька. Живу с трудностями, часто с раздражениями, злобой на трудности, но с охотой. Только иногда мучит неизвестно почему появившееся чувство кратковременности жизни, ее бесконечной преходящести. Отсюда - новые философские - для себя - установки, попытка как-то органически и цельно осмыслить жизнь, чтоб не чувствовать, что она когда-нибудь кончится. Отчего это - не знаю. Но это трудно сформулировать, и это только для себя, и не мешает ничему, а только все подвергает каким-то новым лучам.»[12]
Как видно, не так-то легко дается ей переход из одной веры в веру другую. Несмотря на весь напор, энтузиазм и мощнейшее давление идеологическое на общество, людям трудно было осозновать и ориентироваться в «новой вере», которая «новую жизнь», в новой ипостаси людской обещала, а простых калош, для вхождения в этот «земной рай» обеспечить не могла. Ольга неутомима в своем самоанализе и анализе того, что происходит в стране. Параллельно с началом сталинского террора приходят мысли, что модерн «обманул». А был ли модерн? Все в том же 1933 году она запишет:
«Неужели пропадет мое увлечение жизнью - самое лучшее, что было? Нет, это просто недостаток жиров.»[13]
Это могло быть шуткой в начале 1933 года, но в той ситуации это было правдой. Жиров действительно не хватало. Уже второй год в стране, широко пятилетними планами, шагающей в «светлое будущее», действовала карточная система распределения и получения товаров. Берггольц не просто умная молодая женщина, но чутко чувствовавшая настроения, бродившие в обществе и уловившая смену политики от относительно либеральных 1920-х к террору и цензуре последующих десятилетий. Следующая запись: конец марта 1933 года:
«Необыкновенно раскисшее состояние. Разочарование в себе. Неудачи. Безденежье. Фу ты черт, как паскудно. Недовольство образом жизни. Почти судорожное желание - работать творчески.»[14]
Несмотря на усталось, безденежье и разочарование «в себе», она горит желанием «работать творчески». Почему я поставил в кавычки слово «в себе» потому, что разочаровавшиеся в себе люди не сохраняют в себе желание работать творчески. Значит она не разочаровалась в себе, в своем таланте, даже в вере в «земной рай», в ней лишь подспудно, тихо и незаметно созревало разочарование или непонимание того, что делала самая «народная» власть на свете.
«У хозяина, у которого я остановилась, было отобрано все хозяйство, как у кулака. А он партизан и хлебороб. Потом возвратили. У него какая-то пришибленная покорность, и мне стыдно перед ним.»[15]
А разве сама Ольга не будет болеть этим же? А разве этот диагноз не относится ко всем советским людям? Покорность, безиннициативность и слепая вера в вождей. В тридцать лет она чувствовала себя старой. Вот итог пяти лет энтузиазма в советской стране. Эта страна могла только обманывать иллюзией «прекрасного будущего» и отнимать у людей молодость, здоровье и жизни.
Модерн новая религия или старая Утопия
Вот яркий пример «прогрессизма» и «сциентизма» в творчестве Ольги Берггольц, правда, раннем. Следующее стихотворение она написала в 1924 году, в период полного принятия новой веры в последнюю утопию.
«…Ищите красоту в ревущих дымных трубах.
Ищите красоту не только у природы,
Не только в струях, ласковых, живых,
Ищите красоту в туманной мгле завода,
Ищите красоту в ревущих мастерских.
Ищите красоту в [трубы] косматых гривах дыма»[16]
Настоящий гимн новому миру. Гимн человеческому уму, научным победам, промышленным преобразованиям! Прекрасная метафора модерна распространяющегося в виде «косматых гривах дыма»! Напомню, это 1924 год. Год смерти Ленина и переход Ляли, как ее звали домашние, из православия в коммунизм, в веру утопическую, в мир модерновый.
Чтобы понять насколько такие образцы поэтического творчества Ольг Берггольц были созвучны эпохи последней Утопии приведем несколько фрагментов разных авторов. Первый, стихотворение Майка Йогансена, одного из представителей украинского «розстріляного відродження»:
І над усе ліса, над домнами ліса,
Ліса над цехами, над нафтою ліса,
Увесь Союз — в лісах.
Ми ріжем ліс, але ростуть ліса
З лісів, як солнце з сніз соснових,
Із хмар пилу, свіже, як пасат,
Встає лице великої будови». [17]
У Алексея Гастева в 1923 году (все же, какая синхронность, какая молодость!) он звучал вот так: «Всю юность, городскую молодежь, передовую молодую деревенщину надо взять в работу и сказать: составляйте молодые бригады монтеров и идите по России, идите в ее нетронутые глубины, идите и развертывайте культуру в целине. Будьте робинзонами, но подкованными войной, революцией, техникой, трудом. Идем же в атаку в эти необъятные пустыри. Делайтесь детьми марша и лагеря. Хорошие молодые ноги, зоркие глаза, тренированные руки, организованная голова, пара инструмента, блокнот, справочники, ограниченный минимум денег.»[18] Вот он, модерн, тяга к преодолению и освоению пространств, времени, отказ от прошлого характерная черта его. Справедливости ради нужно отметить, что Майка Йогансена расстреляли в 1937 году, а Алексея Гастева в 1939.[19] Помните, у Юрия Олеши в дневнике есть запись: «Литература кончилась в 1931 году.»[20] Он сводит конец литературы со смертью Маяковского, ему было виднее, Юрию Карловичу.
Но пока до этого почти целое десятилетие. Начиналась любовь, чувственность. Следующая запись из дневника относиться к 1927 году, время начала отношений с Борисом Корниловым, поэтом, расстрелянным как и Йогансен в 1937 году.
«Борька пишет: «ты слишком трезва»... Эх... глупый!.. Да... я еще хмельнее и горячее тебя, только хмель во мне скрытый, глубоко бродит... И я все пробки заколачиваю, только б не вырвался он... А вырвется... Эх!... ну, тогда держись... Знал бы ты, как я мечтаю о нашем будущем, о наших ночах... веселых ночах... Самка во мне сильна, я знаю... Здоровая, яркая самка... Хорошо это? Или плохо?.. Гнусно. <…> Мне ведь всего 17 лет, и я подхожу к жизни ... Но мне кажется, что это так. И еще мне кажется, что хоть я и люблю Борьку так, что «дальше некуда», и еще много и долго любить буду, но... придет кто-то, сильней и лучше или, вернее, не лучше, а иначе, чем он, и я полюблю его - иначе - и до того полюблю, что это будет, как огонь - огромней того огня, который сейчас...»[21]
Почему она до конца 1920-х была полна сил и энергии, а главное, веры в будущее и особенно в ту реальную повседневность, которая ее окружала? А с начала 1930-х словно что-то испортилось в ее жизненном механизме. Нет, не пропали сила и энергия, но что-то случилось с верой в будущее и тогда окружающая действительность стала разочаровывать Берггольц. Чтобы ответить на этот или эти вопросы давайте познакомимся с одни текстом того времени.
«Одновременно с описанными успехами агрономии на чисто химическом пути идут опыты создания искусственного химического хлеба и искусственного промышленного сырья, которые… приведут к “отмене земледелия”. Подойдя к этому пункту, автор рисует возможную картину того применения, какое получит вся освободившаяся из-под сельскохозяйственной культуры площадь, и приходит к выводу, что все усовершенствования в области путей сообщения и радиосвязи и удесятерение… количества населения нашей планеты заставят просто-напросто превратить всю ее площадь в сплошные города-сады, прерываемые обширными, в несколько десятков километров, полянами цветов и растений, преследующих быть освежителями атмосферы… <…> После рассмотрения, — быть может, неполного — технических исканий и возможностей, из коих одни относятся к ближайщему, а другие к более или менее отдаленному будущему, выступает вопрос о человеке будущего, внутренний и внешний облик которого, без сомнения, претерпит значительную эволюцию, в связи, с одной стороны, с предстоящим изумительным развитием техники и достижениями в области биологии и медицины, а с другой — благодаря неминуемому уничтожению классов и осуществлению коммунизма. <…> …путем повторных омоложений, и даже оживления трупов; когда усовершенствование человеческой породы (а вместе с тем улучшения и усовершенствования индивидуальной жизни человека) удастся достичь произвольным регулированием рождений, произвольным измением пола как в утробе матери, так и вне ее (превращение мужчин в женщин и наоборот, путем пересадки половых органов), и посредством всех мер, разрабатываемых ныне наукой об усовершенствовании человеческой породы — евгеникой».[22] Это из сборника «Жизнь и техника будущего» изданного в еще вполне «травоядном» 1928 году. С упоминанием таких столпов науки и техники как физика Эрнста Резерфорда; архитекторов и дизайнеров: немца Бруно Таута (квартиры с передвижными перегородками), француза Пьера Жаннере (дома без потолка, с садом внутри); другого француза Ле Корбюзье с его проектами домов-коробок; англичанина химик и физик Уильяма Рамзай (лауреат Нобелевской премии); американца Генри Форда и его конвейера, а также с прогнозированием таких летательных аппаратов как геликоптер и даже, орнитоптера (аппарата с машушими, как у птицы крыльями); однорельсовой железной дороги англичанина Бренана дух захватывает и невозможно не поверить в то, что наука однажды приведет человечество светлой и широкой дорогой к «земному раю»!
Утопия Модерна сдерживаемая старыми силами в моменты революций вырывается наружу, неся не только хаос, но и новую надежду на новый мир. Именно в хаосе и благодаря ему появляются надежды на новые миры. Затем, в условиях стабилизации и консервации социально-политических сил Утопия, в свою очередь, сама консервируется, сохраняясь в виде ностальгии, мечты или веры у нового поколения в то, что будущее обязательно наступит и будет светлым, как писалось во многих книжках. Борис Гройс в своей замечательной книге пишет, что послереволюционный мир должен стать "прекрасным".[23] Принимается и такое понимание утопии Модерна.
Большевики сделали правильные выводы из неудач утопистов разных мастей близкого к ним 19 века. Поэтому придя к власти с помощью оружия, в дальнейшем, и власть, и людей в своем «лагере-коммуне» они удерживали с помощью оружия и силы. Если власть, государство, экономическое планирование и реализация этих планов не в состоянии, не то чтобы построить «города-сады» при полной «отмене земледелия», но просто накормить подушное население, которому она — власть обещала многое из того, что мы цитировали из прекрасного футуристического сборника, остается только сила и оружие, а точнее насилие и запугивание, и вечный страх, в котором будет жить население Советского Союза.
29 января 1938 года Ольга Берггольц запишет в своем дневнике:
«Нет, и без дураков, хочу быть в партии. Бессмысленность моего человеческого, как всякого человеческого существования, не убавляется от этого, конечно, но приобретает форму наивнейшей полноценности. А это уже - очень много, при учете все той же всеобщей бессмысленности жизни...»[24]
Если на место «партии» поставить слово Модерн, многие станет понятным и видимым под другим углом, о чем я писал, называя СССР последним проектом или попыткой Модерна подарить людям надежду и смысл их существования. В конце этого же года в декабре Ольгу, находившуюся на позднем сроке беременности, арестуют. В тюрьме ее будут истязать допросами, бить и пытать, уничтожая не только мечту о будущем, а элементарное и базовое челеческое достоинство, превращая ее в раба, в не человека. В результате пыток физических и моральных у нее случиться выкидыш. Позже она запишет в дневнике:
«Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гадили, потом сунули обратно и говорят: живи!»[25]
В своем предисловии Т. Красовицкая к публикации дневников Берггольц пишет, что «Советский проект 30-х гг. — это сталинизм. Еще сильны утопизм и пафос. Внутри него еще кажется, что есть Модерн (Прогрессизм, Сциентизм) в сочетании со Справедливостью и гуманизмом. Советский проект — это хорошая страна, это «Светлый путь» с Любовью Орловой. Она летит в машине над Кремлем: «Мамка, глянь-ка, это Танька!» Это «Цирк» с еще не убитым Михоэлсом, он поет на лошнмамэ колыбельную младенцу-метису, и оба трогательно губастые (но сколько же раз этот кусок будут то вырезать, то вставлять в пленку фильма!)»[26] Я бы в этот список добавил работы художника Юрия Пименова, например, «Новая Москва», написанная в том же злополучном 1937 году. А также картины «спортивного» цикла Александра Дейнека. У которого мужские и женские тела наполнены таким бессмертным эросом, сближающим его с идеалами нацистского понимания искусства, изображения тела, здоровья и пр. Кстати, девушка, изображенная на картине Пименова за рулем «ГАЗ-А», а на самом деле, одной из американских моделей «Ford», который собирали по лицензии на советском автозаводе, внешне мне напоминает Ольгу: такие же светлые волосы, такая же худоба и, главное, та же молодость!
Вернемся к фразе Т. Красовицкой. Все это верно, но дело в том, что разочароваться в «советском проекте», или в последней утопии Модерна было невозможно, это было равносильно отказу от собственной личности, от субъектности, от своих юношеских убеждений, от основ своих взаимоотношений с миром и судьбой. Невозможно? Нет, не так сформулировал свою мысль. Несомненно, можно разочароваться во многих убеждениях молодости и не только молодой поры, но вот перестать верить, все же, невозможно. Поскольку убеждения находяться в области рационального сознания, а вера в области интуитивно-подсознательного. Можно осуждать и видеть, что в стране нет первого необходимого: хлеба, калош, молока, книг и пр., но при этом продолжать верить в утопию. Отсюда следующая фраза, когда она вынашивала идею книги:
«Обязательно ввести в роман первомайские праздники и парад! Гулянье на пл<ощади> Урицкого. Сонино лицо все в огнях ракет, ее неодолимый смех, и музыка, и она всем подпевает, подхватывает брошенные ей слова, шумит, прыгает, плещет в ладоши...»[27]
Это 1933 год, только начало разочарований. Она пытается ввести в творчество то, чего не хватало в жизни. Героиня Соня не написанного ею романа, тоже похожа на девушку с картины Пименова, выскочившая из американского авто и бегущая по новым улицам Москвы. Нет, не о парадах и фейерверках речь, а об ощущении счастья, которое давало будущее, которое давал Модерн и его концепт «земного рая». Парады были, а радостного чувства они уже не давали.
И если есть вера, если в конце будет «земля обетованная», или «рай земной», то должен быть и пророк во главе этой стройной идеологическо-религиозной пирамиды. И он появиться.
«Вчера слушали доклад Сталина на съезде. Трижды будь благословенно время, в которое я живу единый раз, трижды будь благословенно, несмотря на мое горе, на тяготы! Оно прекрасно. О, как нужно беречь каждую минуту жизни.»[28]
Пророк «Нового мира». Теперь православие и коммунизм объединились, практически, в одну цельную идеологию или веру, как угодно и неважно, что официально, этот союз, это объединение совершится в 1942 году. Заметьте, как объединяются в ее уме Сталин, время и бесконечность. Вождь, который построил огромный лагерь, вместо страны, где никогда не было точного и практичного времени, а только безвременье, ассоциируется у молодой поэтессы, а точнее, заставляет думать ее о времени, о том, как дорога каждая минута жизни. А ведь точно, дорога! Только для европейца или американца дорога, как некая потенция, возможность, что-то совершить и реализовать собственные таланты и мечты, а для советского человека каждая минута дорога потому, или пока ты на свободе, поскольку в любой момент ты можешь оказаться в тюрьме или в лагере, после которых жизнь уже не продолжалась.
«Чтобы [страна} республика сумела одолеть
Как равная, сведя с природой счеты,
Болезнь и смерть и старость горе на земле.»[29]
Кажется, что в этом стихотворении, Ольга, как и многие другие поэты, воспевает государство, в котором вся власть принадлежит рабочим и крестьянам, где совершается уникальный социальный эксперимент. Если вернуться к картине Юрия Пименова и посмотреть, как в те годы застраивалась столица Красной империи, то с этим трудно не согласиться. Однако, если мы заменим слово «республика» или «страна», например, на «рай на земле», Модерн, утопия, то получим опять эту несбывшуюся метафизическую мечту. Тогда на ум приходит недостроенный «Котлован» Андрея Платонова и полностью достроенная и реализованная система лагерей почти по все территории империи. Хотя сами слова «республика» и «страна» определенно несут в себе коннотации «земного рая».
Все эти годы, 1930-е, она работала, несмотря на внутренние кризисы, смерть дочерей, разводы и расставания, измены и безденежье. Основным ее трудом была книга об истории завода «Электросила», к которому Ольга была приписана, где официально работала и, которую она создавала по горьковскому почину, в рамках его концепции истории фабрик и заводов. Она пыталась показать героев книги, завода, революции, тех рабочих-стариков, которые в начале 20 века принимали участие в революционом движении, как бессмертных людей, как нестареющих Прометеев, поскольку они занимались бессмертным делом, делом приближения и построения «земного рая». Даже в идеологический книжке об истории завода она пытается побороть время и все же заставить верить себя и других в «бессмертность», то есть, в рай земной. Как пишут исследователи и публикаторы ее дневников роман об истории завода «Электросила» до сих пор храниться в архиве неопубликованным и есть ли сейчас смысл в публикации такого романа они сомневаются.
Ностальгия по Прошлому
1930 годы — это время разочарований, это годы расставаний, это измены, депрессия, привыкание к алкоголю, шумным кампаниям. У нее любовные или романтические связи и интриги со многими видными деятелями литературного процесса того времени, с Леопольдом Авербахом, Юрием Германом, Виктором Беспамятновым, Юрием Либединский и др., не считая прочих и иных кавказских начальников строек, цехов, заводов, с которыми они знакомится во время своих коммандировок в самом начале 1930-х. Чистая девочка Ляля, став комсомольской превращается в «блядь» и с точки зрения обывательской (мещанской), и с точки зрения большевистской морали. Что же происходит с Ольгой, которая после мировоззренческого переворота 1924 года вместо высокого облика советского коммуниста или комсомолки примеряет совсем иной кафтан?
Я думаю, что разумом Ольга, трезво осматривая «пейзажи настоящего», которые окружали ее, стала понимать что происходит какая-то рассинхроность между лозунгами и реальной жизнью, между начальными представлениями о цели и постоянными корректировками в достижении ее. Стало понятно, что против веры в «светлое будущее», невозможно противопоставить ничего. «Вот эти самые валки, ниппеля, локомобиль - ведь тысячи, сотни тысяч потерь! Ох, сволочи, сволочи!», констатирует она в дневнике.[30] Можно, сидя за своим столом, под светом лампы, трезво оценивать то, что происходит за окнами, за границами строящихся Москвы или Ленинграда, однако… Ольга могла наблюдать разворачивающуюся перед ней реальность из окон своего дома в Ленинграде, построенного на костях подневольного населения империи. Кстати, «первый звоночек» или предупреждение о неустойчивости обещаний о «светлом будущем» связано в жизни Берггольц именно с домом, где она проживала. Но об этом чуть ниже.
Ни неудачи в построение коммунистического государства, ни пустые прилавки, ни цензура в творчестве, ничто не состоянии уничтожить веру, отказ от которой, как мы говорили выше, равняется отказом от самого себя, от собственной идентичности. Напомню, что вера в коммунистический рай, в прекрасное будущее совпало с формированием Ольги Берггольц как личности, как субъекта духовного и социального в конкретном миге великой Истории, а также с переходом, а точнее, с расширением старых, религиозных убеждений, с обещаниями новой Утопии. Она гарантировала, что рай возможен не после смерти в виде награды «за правильную жизнь», а уже здесь на земле, при жизни молодого поколения, к которому принадлежала Ольга! Скажите, разве можно было что-то противопоставить таким аргументам? Есть только одна сила, способная противостоять вере в будущее. И сила эта — ностальгия по Прошлому.
Еще в самом начале 1936 году после смерти второй дочери Ольга стала обращаться к прошлому, как ушедшему под воду острову счастья. Причем счастье это — семейное. Когда нет этого естественного, божественного продолжения человека в его ребенке, остается только одно, ностальгия по Прошлому, в котором все было, а следовательно,все возможно. А после смерти второй дочери Ольги обращение к прошлому все чаще стало неизбежным и постоянной потребностью.
«Ты — как вестник, как гость издалека,
Из страны, где не помнят меня.
Чье там детство?
Чьи парты, снежки, уроки?
Окна в елочках и огнях?»[31]
И вот в этом, на первый взгляд интимном стихотворение, проскальзывают нотки счастливого прошлого. Прошлого, где не было 1937 и 1938 годов. Все эти бытовые или поэтические зарисовки, упоминание санок, валенок, завтрака и пр. — это ностальгия по прошлому. Стихотворение это Ольга опубликовала в 1948 году, в поэтическом сборнике, на груди ее пиджака уже «блестели» медали: «За оборону Ленинграда» (1943) и «За доблестный труд в годы в ВОВ 1941-1945», и за три года до получения Сталинской премии. Вдумайтесь, середина века, 20 века, это время, когда по надеждам, теории и планам многих утопистов, большевиков, модернистов общество, хотя бы отдельно взятой страны, с самым «передовым общественным строем» должно было жить при коммунизме, другимим словами, в «земном раю», обещанным отцами-основателями красной империи. А за окном послевоенная столица с изувеченными солдатами, нищета, карточная система, отмененная только в декабре 1947 года.
«Как страшно становиться многоликой,
И многодушной, и многоязыкой,
Еще страшней — всегда самой собой
Остаться в разных обликах и душах
И в чьем-то горе, в радости чужой
Свой тайный стон
и тайный шепот слушать
И знать, что ничего не утаишь…»[32]
Как талантливо, как сильно. И не про войну, и не про родину подлую, и не про народ, а про себя, которая не для себя, а для времени и жизни. Жизнь личности в истории, которая тонкой нитью незаметной вьется через толщи времен; и страшно уйти и сладко жить, томясь печальным концом. К этому времени Ольга Берггольц уже тверда знала и, признаемся, твердо верила, что «земного рая», «города-сада» не будет. Она уже пережила свою юность и молодость, и пережила себя с тем мировоззреним, с которым входила в мир — впереди только смерть. По сути она переродилась или «оборотилась», стала «человеком-оборотнем», с большой любовью к алкоголю. Пусть со Сталинской премией, с вольготным положением «бонзо-поэтессы», авторши знаменитого слогана про незабытых и незабытое, с иконостасом медалей и орденов на сером сукне советского пиджака. Однако…
Однако, не будем торопиться, перелистаем страницы дневника назад.
«Август 1933 год.
Чем больше живешь, тем, вероятно, меньше счастья. Как я была счастлива прошлый год, вот в это время. Год, год! Такой же линолеум был чистый, и я сидела с большим животом за столом, смотрела на полки, на выкрашенные стены, и в окно так же грохотало и тянуло уже осенним, легким, грустным морским холодом. Я ждала возвращения Кольки из армии, ждала Майку - да ведь я была счастливая тогда! Господи, какая тянущая, остренькая тоска, как жалко себя, как доченьку жалко, где это все?»[33]
И вот наступает тоска по прошлому. Все как по учебнику, все как в теории. Хотя если посмотреть прошлогодние страницы ее дневника, там будет такая же подавленность, как и на данный момент. Одно исключение, смерть дочери. И вот когда медленно уходит вера в будущее, в прекрасную утопию, то так же медленно появляется тоска по прошлому, человек задним числом она начинает ощущать себя счастливой в прошлом, в жизни, которой нет, которая прошла и осталась только в памяти, зачищенная и цензурированная ею самой, самим человеком. Вера в то, что в прошлом было лучше, вкуснее, солнечнее, веселей — это та отличительная черта, которую удалось привить советским «ученым-мичуринцам» советским же людям и которая сохранилась до сих пор.
В год ареста, но еще до этого она читает Льва Толстого:
«29/1-38. …Толстой, писавший в последние дни своей жизни, что жить нужно настоящим днем, настоящей минутой, не ставя себе длинных целей <...> Идеал счастливого существования - бесцельное наслаждение ежедневным... Но как же примириться тогда с тем, что должно быть и будет отнято, т. е. со смертью, в условиях, когда отнята идея личного бессмертия?»[34]
Это то, что мы пытаемся осмыслить профанной фразой произнося: «почувствуйте разницу»! Какая разница между ее первыми, девичьими строками, наполненными верой в будущее и этой фразой о «наслаждение еждневным»! Вот, беря в союзники авторитетные фигуры, она пытается противостоять соблазнам Модерна. Ольга соглашается уже, что будущего нет, вера в утопию ни к чему хорошему не приведет. Остается жить одним днем, как тем ницшеанским коровами, у которых нет ни прошлого, ни будущего, а только один миг настоящего, когда они на лугу жуют траву. Чистая физиология! Какие успехи «науки» евгеники, которую мы упоминали в самом начале.
Часто возвращаясь на страницах дневника к старшей дочери Ирине, вспоминая ее, она пишет в 1938 году:
«Что? Все! Все, что до смерти никому живому не известно. Я все-таки пойму, почему жизнь неудержима и что главное в ней - память. Как я вижу тебя сейчас. Сквозь вино, сквозь мелкие неудачи дня. Пускай бы отняли тебя от меня. Но пусть бы ты жила. Я знала бы, что ты где-то кривишь свой умный ротик, стоишь на одной ножке ... Ира. И-ра. Только ты.»[35]
За болью матери, потерявшей своего ребенка, своего первенца, стоит иная боль, боль пустоты, физическое чувство тошноты от будущего, в котором не только нет обещанного в молодости Утопии, но и собственного дитя. Оно было, а теперь его нет. И как это объяснить с точки зрения диалектики и научного марксизма? Ни мать, ни поэтесса не находит ответа. Память все настойчивей заявляет свои права на жизнь, она отвоевывает «жизненное пространство» и чувство веры в «светлое будущее». Память незаметно вначале, потом цепко и навсегда впивается в человека, обращая его спиной к его будущему.
Память не является концептом Модерна. Она противоречит ему, она вступает с ним в конфликт. Память скрывает все недочеты и слабости Модерна, всю его бесперспективность, отсутствие «бесконечности».
Время Модерна уже не пришло. После всего
Итак, первое предупреждение о том, что не все мечты осуществляются Ольга получила от того места, дома, в котором она жила в Ленинграде. Дом, построенный по проекту одного зрелого и двух молодых архитекторов Андрея Оля, Константина Иванова, Анатолия Ладинского, задумывался как реализация тех самых проектов, о которых мы писали выше: немецкого архитектора Бруно Таута (квартиры с передвижными перегородками), французского Пьера Жаннере (дома без потолка, с садом внутри) и пр. Нет, в этом проекте конструктивизма еще не было передвижных стен и не росли деревья, но в квартирах уже не предусматривались личные кухни, санузлы и т.д. Сама Ольга писала, что она освободилась от всей семейной посуды, несмотря на протесты матери и снесла все тарелки с каемочкой в общую столовую. Очень скоро оказалось, что дом неудачно спроектирован. И обобществленный быт, какой предусматривался в «земном раю» многими утопистами, не выдержал испытаний в практической жизни. Очень скоро жильцы прозвали свой дом «Слезой социализма», а сами получили прозвище «слезинцы». Почему я делаю акцент на молодости двух архитекторов, потому что эти молодые зодчие должны были бы жить в проектируемом им будущем, однако форма, за которую им впоследствии досталось от адептов сталинского реализма, ограничивала не только мечты, но создавала массу трудностей в повседневности.
Нет, все же хочется еще сказать пару слов о «доме-утопии», и об этом доме конкретно. Если держать в уме «Котлован» Андрея Платонова, то получается, что эта идея «Дома социализма» все же была реализована и не только котлованы оставляли после себя строители «городов-садов». Достаточно вспомнить еще два осуществленных проекта: «Дом правительства» в Москве и «Дом “Слово”» в Харькове. Первому посвящен роман Юрия Трофонова[36] и недавнее исследование Юрия Слезкина.[37] А второму, книга Владимира Кулиша, изданная в Канаде в 1966 году[38], а также недавний документальный фильм, снятый в Украине режиссером Тарасом Томенко.[39] Кстати, эта идея,уже в 1950-60-е годы, будет преобразована в города и сады в космосе, на Марсе и прочих планетах по списку. Чем закончилась следующая и последняя советско-космическая утопия мы тоже знаем.[40] Однако вернемся к дому «Слеза социализма», что на углу улицы Рубинштейна и Пролетарского переулка в Ленинграде. Итак, идея «дома-коммуны», как миниатюры «города-сада» оказалась скомпрометированной самой жизнь, в рамках практических испытаний, ежедневным бытом тех, кто в нем обитал.
Отсюда такая апатия, разбитость, отсутствие стимулов: «То есть до ужаса ничего не делаю. Разумеется, виною всему – пресловутое чувство временности, в основном.»[41] Действительно, зачем что-то делать, если все временно, если вечности нет? Модерн был наркотиком, обольщением, иллюзией бессмертия, вечной жизни, рая здесь на земле, а не после смерти. И это все еще до ареста, до декабря 1938 года. Все чаще ее, в возрасте 25-30 лет, посещают мысли о финише, о законченности жизни. Парадоксально!
«Но дома грязно, посуда немытая стоит по неск<олько> дней, едим кое-как... Просто распустилась. Много сплю; сплю до 2 ч<асов> дня, засыпаю в седьмом утра.»[42]
Эти пейзаж и натюрморт вместе взятые никакого отношения к светлому и ожидаемому будущему не имели. Все делали правильно вроде и люди, и партия, и вождь шли/вели всех в правильном направлении, по правильному, ленинскому пути, а пришли почему-то к очередями за «коверкотовыми воротниками». И этот факт тоже считался успехом. Напомним, как он звучал из уст самого непререкаемого авторитета: «жить стало лучше, жить стало веселей».
«Неужели так быстро прожила я жизнь, и вижу ее до дна, а дальше одно и то же? Нет, это временное смутное время. Безвременье! Да, то, что я переживаю сейчас, лучше всего можно охарактеризовать как душевное безвременье.»[43]
От разговоров о том, как плохо все устроено при социализме (все воруют, брак на производстве и т.д.) Ольга перешла к неутешительным личным выводам или итогам. Вообще, Берггольц обладала феноменальными способностями в области предвидения собственной судьбы, или предсказания оной. Эта фраза, которую она записала в конце 1935 года, полностью будет соответствовать всей ее последующей жизни.
Еще раньше в 1934 году она запишет:
«О, как все плохо, как плохо устроена жизнь! Да, когда спала под наркозом во время аборта, видела во сне абортарий при социализме (!). И снилось, что не для чего нам было подвергать себя лишениям, терзаниям тела и духа, потому что, в конце концов, ничего не изменится, все по-прежнему будут человеческие недуги, болезни и горе, и по-прежнему будет плохо, плохо человеку, неизвестно для чего живущему на земле.»[44]
Эти мысли об абортах, о прекращение беременности, и о том, что «по-прежнему будет плохо», после всех усилий, жертв и экспериментов вызваны прежде всего ее личной трагедией, с невозможностью по разным причинам еще иметь детей: аборты, связанные со здоровьем, с тюрьмой и пытками, просто с нежеланием иметь ребенка от любовника, перекликаются с мыслями из книжечки, о которой мы уже не раз вспоминали: «Жизнь и техника будущего» (1928). Но, помимо личного ощущения неудавшейся личной жизни, в этих словах ощущается разочарование от советского проекта утопического Модерна. Приведем еще один фрагмент из этого сборника: «…когда путем изобретения антитоксинов сна и переутомления, человек будет освобожден от бремени усталости и сна; когда страдания, причиняемые ныне свободным наслаждением любовью в форме нежелательной беременности, будут устранены посредством открытия биологического и совершенно безвредного способа предупреждения беременности, благодаря которому окончательно будет уничтожена необходимость в абортах…», человек обретет счастье бытия.[45] Увы многое свершилось уже через десять лет после опубликования этого сборника. Такое впечатление, что Ольге снился тот самый абортарий из будущего, в котором, увы, не устраняются страдания от нежелательной беременности, но в нем прекрасно справляются с помощью некоторой стерилизацией даже от беременности желательной. Не знаю, какими умельцами были следователи Ягоды-Ежова-Вышинского в кабинетах на Лубянке в Москве и в Крестах в Ленинграде, но сейчас мне они напоминают пришельцев из будущего (будущего для авторов сборника 1928 года), которые с легкостью справлялись со многими проблемами советского бытия. Например, с бессоницей, абортами, вот беда только, не могли они справиться с усталостью, переутомлением «пациентов».
Берггольц не покидала моральная и физическая усталость, бессоница или, наоборот, длительный дневной сон, после которого она не могла прийти в себя очень долго. Она думала, что собирает материалы для книги, для романа, а он уже писался на разрозненных листах и тетрадях дневника, фиксируя весь ужас и хаос, в котором приходилось жить миллионам. Сразу после выхода романа Юрия Олеши «Зависть» (1928) Ольга читает его и записывает в дневнике следующее:
«Читаю «Зависть» Олеши. Ведь я - новое, неужели я тоже завидую? Вот я в коллективе... А как посторонняя. Не знаю, почему... Ясно, жизнь моя вне коллектива. Я дышу другим... Хорошо это или плохо. И плохо, и хорошо. Нет, ведь будет же работа! Это подготовка. Ведь завтра мне только 18 лет будет, еще мало... Все успею...»[46]
Вот и слово точное, как болезнь, как название болезни: Посторонние. И Берггольц и Олеша и многие другие. Правда, Ольга совершила кульбит, война и блокада помогли. Но ведь, ненадолго. Опять стала посторонней после войны, но с печатью на всю жизнь: «поэтесса блокадного Ленинграда». Это как актерское амплуа, штамп на всю жизнь. С пресловутыми орденами, премиями, привилегиями, о которых мы писали уже чуть выше. В этих строках, вновь и вновь, она как-будто предвидит или предугадывает свой путь и свой итог.
Итак, подведем и мы предварительные итоги. Жила была девочка Ляля Берггольц, она верила в Бога, потом полюбила всем сердцем бога-вождя Ленина и уверовала в утопию Модерна, который обещал не потусторонний рай, а здесь, на земле, в рамках одной жизни, одного, конечно, вечно молодого и прекрасного тела (помните, как она описывала себя «самкой»). В каком-то смысле лысый Ульянов был первым «любовником» Ляли Берггольц. Именно он убедил ее в возможности «земного рая». Причем, в самом начале, убедила не его теория социализма, а именно его мертвое тело, с помощью магических операций освободившееся от тления и выставленное в кремлевской мастабе на показ с таинственным и приглушенным светом. Идем дальше, с утопией что-то не случилось, дом будущего, оказался неудобным для ежедневным практик, что хорошо для конструктивистского манифеста и евангелия, то криво-косо выходит на практике. Утопия выдавила из себя «Слезу социализма» и нужно жить дальше. А дальше… пошло-поехало. Мужья, любовники, партия, усатый вождь, заводы, комсомол и главное: смерти, смерти, смерти, и не было и нет вечной жизни, с комфортом и без боли. А еще через некоторое время возникли трудности в творчестве и стихи стали пропадать или рождались какие-то неполноценные.
Вот мы подобрались к следующей важной черте, стигме, отметке в ее философских и мировоззренческих концепциях. Речь идет о ее поздней концепции, в которой Ольга объединяет три формы времени в одно. Такая уловка позволяет ей больше не ждать будущего, верить в Утопию «здесь и сейчас». Вот как пишет об этом А. Павловский в предисловии к изданию ее избранных сочинений в 1983 году (сладкая постмодернистская эпоха брежневского застоя): «Впоследствии Ольга Берггольц ввела широко известный теперь термин-понятие Большое Время: по мысли поэта, оно заключает в себе сразу три действительности: прошедшее, настоящее и будущее. Их слияние в единый “лучевой пучок”, пронзительный в своей ослепительной силе, происходит в момент трагически прекрасного озарения. ≪Нет, я не вспоминала, — писала она в «Дневных звездах», — я жила тем, что было, есть, будет≫».[47]
Причина создания такого концепта времени, в котором обьединяются все три времени, как мне кажется, заключается в следующих двух факторах. Во-первых, для такого ощущения необходимы события большого исторического значения, такой для Ольги послужила Вторая мировая война. Во-вторых, поскольку идея «земного рая» потерпела поражение, «земного рая» никогда не будет на земле, однако, пока на земле живет человек со всеми его сильными и слабыми сторонами, пока существуют противоречия и борьба противоположностей, в том числе идей и идеологий, пока он способен осмысливать и рефлексировать и, через боль, снова мечтать, продолжать жить, он не может довольствоваться только будущим или прошлым, да и настоящим тоже, поэтому человек объединяет в себе все три состояния времени, дабы не оказаться с пустыми руками, если вдруг, придется оказаться или в прошлом, или в настоящем, или в будущем, или живым или в иной ипостаси и в другом теле: физическом (мумифицированном, замороженном), ментальном или в виде сгустка энергии. К этому пониманию времени относится следующая фраза Берггольц из ее «Дневных звезд», которые она писала, переписывала, правила лет двадцать с 1930 по 1950-е годы:
«...Тогда, накануне юности, я не знала еще, что ожидание счастья сплошь и рядом сильней, чем само счастье.»[48]
А сама идея, не слишком артикулированная ею в дневниках пришла к ней, сформировалась, как мне кажется, к началу войны или к 1942 году.
«Ведь главная боль в том, что непонятно, что к чему и зачем ... Надо же объяснить хоть как-нибудь .. Как же жить и работать в таком тумане? Отмахнуться? Не выйдет! Успокоить себя общими фразами, философией типа - «все существующее - разумно, так в истории всегда». Но во имя чего успокаивать? Страшный сквозняк в душе.»[49]
Жизненная и философская апория Модерна, из которой Ольга Берггольц искала выхода. Если, конечно, можно говорить об идеи «Большого Времени», как об установившейся раз и навсегда концепции. Вероятно, она постоянно претерпевала изменения под воздействием внешних факторов ее личной и общественной жизни, а также «внутреннего увядания».
Думаю, что именно такой подход или понимание времени и бытия позволил ей жить в условиях сталинщины, войны, блокады, послевоенной фальши и бравады, пережить оттепель и познать всю стабильность брежневской эпохи, сытого позднего благоденствия коммунистического режима. Ее бессоницы, творческие тупики, смена мужчин, жесткость по отношению к некоторым товарищам по писательскому цеху, ее стихи в честь Сталина и интимные в память об ушедших дочерях и многое другое, это сложное претворение в жизнь понимания триединства времени в одном моменте.
Несколько фрагментов из дневников. Про усталость, неряшливость:
«Просто распустилась. Много сплю: сплю до 2 ч. дня, засыпаю в седьмом утра. Ах, просто, ну просто я лодырь и неряха…»[50]
Это она пишет в дневнике за полтора года до начала войны и блокады. А потом она, несмотря на голод найдет свой стержень, свой смысл жизни. И получается, что именно блокада сделала ее такой, какой ее знали после войны во всем СССР. Это работа концепта времени.
Про пьянство:
«Купила водки - напьюсь сегодня. <...> Говорю без всякой позы: очень, очень вино помогает. Все становится каким-то легким, преходящим, невесомым. Я испытала это раза три за эти месяцы, но этого-то и испугалась... И слезы тогда какие-то легкие, и главное, не жаль ничего, ничего…»[51]
Пить — это действительно выход в другую, близкую к утопии, реальность, к концепту трех времен в одном. Ослабленный критический подход сознания к жестокой реальности достигается путем приема алкоголя. Он спасает и уводит в другую реальность. Часто, навсегда.
О жесткости, 1937 год:
«Больше жестокости, больше черствости, больше хладнокровия - вообще, и, особенно, в частности.»[52]
Именно она, жестокость, и позволила удержаться на плаву. Именно жестокостью пронизаны все военные и блокадные стихи, благо, что в этой жестокости можно было обвинить фашистов и направить собственную в их адрес.
О творчестве:
«Продумывание, отыскивание особого сюжета, проявление политической линии в конкретике - любого завода, все это идет. <…> Настроение совершенно похабное - тоска, доходящая до физической тошноты. <…> Хочу переходить на историю заводов - штатно, не знаю, что получится. Это меня устраивает больше, чем страница, надоела газета до потери сознания.»[53]
Вымучивала любой сюжет, любую идею, главное — «тема завода», тема рабочих. А рукопись до сих пор не издана. До сих пор! Сколько потраченный усилий и, главное, времени!
О 1937 годе:
«Чудовищно - ни за что, собственно, оказаться в одном ряду с врагами.»[54]
Чудовищно то, что миллионы осужденных думали так же. Считая, что оказались в расстрельных списках по ошибке и продолжали верить партии, как утопии, а иначе, как жить без веры в утопию? Бог умер, но вожди не умирают!
«Еще: стыдно, что в нашей партии произошло такое. Ощущение позора, почти личного, и какой-то ошибки: недостаточно решительно гнали эту сволочь? Или мало демократии? Но нет - ведь это «верхи». Они пятнали партию... А все-таки она - незапятнанна. Нет, суки, заёбы, и те, что на скамье, и те, что еще не попались, и те, что иронизируют и потирают ручки - не вам, не вам, суки, торжествовать и осуждать партию.»[55]
Прошедшие лагеря, пытки, сталинский террор еще могли одновременно любить и боятся своей страны. И писать такие патриотические стихи. Поскольку полное разочарование, как указывалось выше, было равнозначно утрате собственной самоидентичности.
И только в одном месте вся стройная концепция времени делает осечку. Там, где смерть приходит, чтобы разлучить тело с энергетической субстанцией, названия которому еще нет или уже нет. В 1937 году она записывает:
«Много читаю: Чехова, Толстого, Бальзака. Их герои жили, страдали, мучились, и жизнь каждого кончалась смертью, и у самих создателей был один конец - смерть. И как бы человек ни жил, что бы с ним ни случалось - все равно смерть. Я умру. Коля, Коля! умрет. Ириши больше никогда не будет, она уже умерла ... Умерла! Боже мой! Страшно. Страшно...»[56]
Когда рассеивается туман утопии проявляются силуэт смерти. Когда нет чего-то большего смерти, того, что отрицает саму смерть, тогда она жнет большие урожаи растерянных душ. Коля, Николай Молчанов умрет от истощения в голодном Ленинграде, она умрет в 1975 году, орденоносная, но практически забытая современным читателем.
На острие времени! Или правда = ложь?
Размышляя ретропективно о том, что война принесла Ольге Берггольц можно констатировать, что вместе с болью, страхом, отчаянием, смерью мужа Николая Молчанова и другими тысячами и миллионами смертей, она, война для Ольги оказалась ступенькой в новый этап жизни, с новой концепцей времени; война оказалась, как это не парадоксально звучит, «свежим глотком» для творчества Ольги. И в каком-то смысле, войну эту и блокаду, как ее последствие, она полюбила всем сердцем коммунистки, вновь разгоревшимся творческим огнем, если позволительно так говорить. Война открыла новые горизонты и перспективы для ее буксующего творческого сознания. Она нашла свою стезю, дорогу или голос в это трудное время. Чем помнится война?
«В бомбоубежище, в подвале,
Нагие лампочки горят.
Быть может, нас сейчас завалит, —
Кругом о бомбах говорят…
…Я никогда с такою силой,
Как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
Такой влюбленной не была.»[57]
Вот оно пограничье. Это прекрасное ощущение счастья посреди горя и смертей! Острое ощущение временем, одновременности бытия, или, Большого Времени!
1942 год. И вот она признается, что испытала в первые дни и недели войны:
«Я погрузилась в работу, другие - массовые мысли и чувства, овладели душой, довоенная подавленность исчезла, что страшнее всего, что и у меня и у Коли совсем исчезло пресловутое томящее «чувство временности», как будто именно для этих гибельных дней войны мы и жили, ждали только ее.»[58]
Война раскрывает, высвобождает ее старые и врожденные способности говорить с помощью стиха, поэзии, творчества, самой жизни, правду и только правду, которая не ссылается на будущее счастье, а предоставляет себя человеку прямо сейчас, в каждом моменте бытия. Берггольц распрямляет плечи, глубоко дышит гарью войны, но не как толстобрюхий генерал, знающий, что за каждый день и час на войне он становится богаче и круглее, а как поэт, оказавшийся на самом кончике острия лезвия бритвы. Там, на самом острие нет времени, привычного нам. Там нет времен, а только вечно длящийся момент настоящего. Чистый, искрененний. Внешняя умозрительная угроза стране, а следовательно, угроза мечте и утопии о «земном рае», угроза Модерну отодвинула правду, которая заключалась в том, что никакого рая не будет. Эта угроза войны, словно дымовой завесой, гарью от разрывов снарядов спрятала ту правду на горизонте, которая пугала своей пустотой и бессмысленницей, и конечностью. Теперь нужно было отвечать на угрозу сейчас же, сразу, каждый день, день за днем и это дало силы и веру. Исчезла лень, апатия, вместе с голодом и холодом пришла осмысленность в жизни. Жить, чтобы дожить до конца войны, чтобы побороть хаос, чтобы сохранить в себе веру в «город-сад».
Она жаловалась, что на нее свалилось много работы: статьи, поездки на передовую, работа на радио, запись передач; а еще очереди за куском хлеба; а еще забота об угасающем муже; а еще дневник; а еще новые стихи про смерть,про блокаду, про войну, насквозь идеологические, как речевки в газетах, но все же правдивые, с честной ненавистью к войне, к врагу.
Был день, как день.
Ко мне пришла подруга,
Не плача, рассказала, что вчера
Единственного схоронила друга,
И мы молчали с нею до утра.
Какие ж я могла найти слова?
Я тоже— ленинградская вдова.
Мы съели хлеб, что был отложен
на день,
В один платок закутались вдвоем.
И тихо-тихо стало в Ленинграде,
Один, стуча, трудился метроном.
И стыли ноги, и томилась свечка,
Вокруг ее слепого огонька
Образовалось лунное колечко,
Похожее на радугу слегка.[59]
Вот еще из того сборника 1942 года:
Но я прошу, Наташа,—-очень:
Ты не пиши, как прошлый раз,
Мол, ≪Пожалей себя для дочки≫,
≪Побереги себя для нас≫...
Мне стыдно речи эти слушать!
Прости любимая, пойми,
Что Ленинград ожег мне душу
Своими бедными детьми.
Я в Ленинграде, правда, не был.
Но знаю — говорят бойцы:
Там дети плачут, просят хлеба,
А хлеба нет... А мы отцы...
И я, как волка, караулю
Фашиста — сутками в снегу,
И от моей свирепой пули
Пощады не было врагу.[60]
Даже в этом куске, сквозь мысли и заботу о детях чувствуется пафос защиты родины, безформенного женского тела, тела родины, которое придавило всех, которое так и не обрело форму несмотря на все попытки реформ, революций и утопий. Если в первые дни войны она писала, что «исчезла довоенная подавленность», то уже через пару месяцев, в конце первого военного лета она пишет совсем другое.
«28/VIII - 41
Ровно два месяца войны. В этот день, два месяца назад, мы о ней узнали. Какой суровый подъем был, как все надеялись... а сейчас уныние, упадок, страх. Мы проигрываем войну – это ясно. Мы были к ней абсолютно не готовы - правительство обманывало нас относительно нашей «оборонной мощи». За восемь лет Гитлер сумел подготовиться к войне лучше, чем мы за 24 года.
Еще к началу 1930 годов относится начало знакомства и дружбы Ольги Берггольц с Юрием Германом. При чтение ее дневников возникает ощущение, что они как любили друг друга (испытывали более чем дружеские чувства друг к другу), увлекались иногда друг другом, так и ненавидели один другого. Но сейчас не об этом. Ольга в 1934 году, видимо после очередного разговора с Германом запишет в дневнике: «Основной его тезис – “у нас нельзя писать правду”».[61] А между этим есть две другие записи. Одна относится к началу 1930 годов: «Мне часто кажется, что я - не настоящая, что все - фальшь, фальшь. Что все - от какой-то надорванности»[62], а вторая к марту 1941 году: «Не трудностей я боюсь, а удушающей лжи, которая ползёт из всех пор...»[63] И это была тоже правда о лжи, которая охватила всю страну в те предвоенные годы и после. То есть, сопротивляясь всеобщему обману, споря с Германом, внутри она соглашается, что ложь — основной маркер эпохи. Термин-понятие «Большие Время» выпрямляя внутренние душевные раны и рубцы, давая словам выход на бумагу, как видно, не освобождал от фиксации лжи внешней, официальной, государственной и это, несомненно, ощущалось поэтессой и, в каком-то смысле, она разделяла и несла эту отвественность за ложь государственного уровня.
Разница между пафосными стихами и голодной правдой мемуаров если посмотреть внимательно — огромна. Но оба взгляда правда. Проблема в том, что один взгляд темных и голодных будней был скрыт и как результат: отказ людей верить своей стране, своей власти. Я хочу, чтобы меня поняли правильно, я не утверждаю, что Ольга Берггольц писала только правду или верила каждой лжи, исходившей из официальных источников пропаганды и которую она сама была вынужденна множит и повторять, нет. Дело в том, что возвышенная правда и пафос войны снимали противоречие прошлых лет, когда человек жил по лжи и говорил неправду. Нельзя было по-прежнему писать открыто, что в войне и блокаде виновата и власть: и партия, и лично Сталин, и его окружение, но можно было правдиво писать о стойкости горожан, покорно умиравших от голода и холода. В конце концов, можно было заставить себя поверить в эту «правду», ради того, чтобы вставать каждый день и жить, чтобы не было пресловутой «предвоенной подавленности». Мысль о настоящем моменте, а не уход в мечту Утопию, снимали противоречия довоенных лет и всех прошлых неудач построения «земного рая». Именно эта возможность: жить одним днем, чувствовать в настоящем пересечение всех времен и позволили, как мы увидим в дальнейшем, писать поэтессе по правде.
Конечно, если задуматься, то такое писать после того, как чекисты ногами били ее по животу, а она была беремена, невозможно. Как можно любить страну, когда твою душу превращают в отстойную яму. Где тут правда? Восхвалять солдат, рабочих, которые писали доносы и готовы были первыми растерзать по приказу партии и тов. Сталина любого, на кого укажет костлявый перст вождя. Но все же, ощущение себя на острие времени, ощущение освободившейся правды... Поэтому весь этот пафос о защите родины искренен. Война дала силы, ее туман дал силы и право на пафос и правду. Другой вопрос, что и за это потом нужно было заплатить, но сейчас, сейчас она на острие времени и ложь в ее мировоззрении равна правде.
И я не утверждаю, что Ольга Берггольц была ангелом, нет. Она была продуктом своего времени. Война, блокада, блокадные стихи, ее отказ уехать из города (сначала по нерасторопности, а потом уже как вынужденная поза) — все это, абсолютно все это, огромная дымовая завеса, туман Модерна, занавес, шторы за которые она спрятала горизонт своих ожиданий, свою будущую жизнь. Так ковалась идея Большого Времени. Так было легче прожить оставшиеся десятилетия. Так было легче не видеть пустой горизонт, а точнее пустую стенку, которая приближалась и приближалась, сокращая горизонт возможностей. Но Ольга до конца дней спряталась за этой завесой, в этой капсуле или куколке, если вспоминать Юрия Олешу, который избрал похожую судьбу для себя.
Ведь можно ее крылатую фразу «Никто не забыт – ничто не забыто» понять иначе, если этот лозунг приложить, да к другому месту. Например, сказать так по поводу сталинского террора и последующих преступлений советской власти против собственного населения.
Давайте проследим за теми противоречиями, в которых Ольга жила, с которыми она боролась и которые ее разрушали. Подавила власть и тоталитарная страна то внутреннее, интимное и глубокое, чтобы у Ольги Берггольц? Несомненно.
«Сама я тебя отпустила,
Сама угадала конец,
Мой ласковый, рыженький, милый,
Мой первый, мой лучший птенец…»[64]
Личное горе от потери ребенка Ольга пытается задушить общественно полезным пафосом. Отсюда испанские беженцы и дети, о которых она будет вспоминать в нескольких стихотворениях. И тогда возникает вопрос еще большего порядка: Любовь к родине —это ее добровольная мысль или вдолбленная в бетонных подвалах ленинградского ОГПУ?
Ложь, ставшая огромной, превращается в правду.Эти технологии сейчас известны даже школьнику. Инструменты идеологий давно нас этому научили, и несмотря на это, мы продолжаем «кушать» эту ложь, упакованную в яркую оберточную бумагу. За огромной глыбой всеобщей лжи правду увидеть тяжело. Она пишет, что несла правду всегда. Тогда, чтобы не обидеть поэтессу можно сказать, что о многом она предпочитала промолчать, не писать. Является ли такое молчание правдой? Когда человек из-за насилия и страха создает себе двойное существование, одно для партийных собраний, парадов и общений на улице, а другое для семье, для дневника, а порой, только для себя внутреннего, с внутренним монологом и болью? Именно этим занимался две трети своей жизни уже не раз упоминаемый нами и Ольгой Берггольц Юрий Карлович Олеша, создавший себе футляр, кокон внутреннего существования в рамках советской системы.[65]
Когда невозможно писать правду, нужно учиться писать между строк. Верно, если мы знаем, что можно читать между строк, следовательно, кто-то до этого должен написать между строк. Давайте посмотрим, как Ольга Берггольц писала между строк:
«В 1937 году меня исключили из партии, через несколько месяцев арестовали. В 1939-м я была освобождена, полностью реабилитирована и вернулась в пустой наш дом (обе доченьки мои умерли еще до этой катастрофы). Душевная рана наша, моя и Николая, зияла и болела нестерпимо. Мы еще не успели ощутить во всей мере свои утраты и свою боль, как грянула Великая Отечественная война, началась блокада Ленинграда. Я пробыла в городе на Неве всю блокаду. Николай умер от голода в 1942 году...»[66]
Вот как коротко, когда невозможно по правде. Вот она правда, да только между строк. Не зря этот опус она назвала «попыткой биографии», попыткой написать правду, через цезуры и лакуны. Эту «биографию» Ольга Берггольц напишет в 1972 году за три года до своей смерти. Закончит ее концом блокады Ленинграда. Вот такая вот биография в полжизни, потому что невозможно сказать всю правду, поэтому биография в два раза короче жизни. Эта «длинная» правда вылезет из коротких штанов лжи, ситуация которую она будет использовать как прием. Все это будет уже после войны, после «стабилизации», после последнего неудачного утопического проекта СССР, связанного с космосом.
Таким образом оказалось, что военный подъем оказался способом взять у жизни «взаймы» немного правды, у обложившей всю жизнь лжи, ради того, чтобы пережить ужасные военные годы, годы потерь.
«Всё, что пошлешь: нежданную беду,
свирепый искус, пламенное счастье, —
всё вынесу и через всё пройду.
Но не лишай доверья и участья.»[67]
Этот разговор с родиной или со следователем, или с партией, или даже со Сталиным, или с самой собой? Однако, компромисс, который она достигла с властью оказался компромиссом с самой собой, с внутренним пониманием правды и лжи, который был привит Ольге еще в эпоху ее отроческо-религиозного понимания мира. И если в публичной, актуальной поэзии Берггольц нашла баланс, и слова, которые, как ей казалось, были правдивыми, то в личной жизни она была не в состоянии избавиться от фальши. Когда Николай Молчанов сообщил ей, что он любит другую женщину и готов уйти к ней, даже развестись с Ольгой, она была потрясена его откровенностью и писала в дневнике в 1936 году:
«Я была в сотни раз честнее, когда врала. Я же не блядовала, история с Виктором мучила меня зверски, и я хотела столько раз поговорить с ним об этом, но я знала, что Коля - навсегда и единственный, и настоящий, а это, что с Витей - пройдет, и я кружилась, и презирала себя, но решила нести все одна и не говорить ему ничего, раз знаю, что пройдет - зачем же мучить его.»[68]
Какие аргументы! Она лгала ради их любви. Т.е. не измена разрушила их семью, а ее ложь спасала их до поры до времени. Это не женское понимание измены, это искаженное предыдушим опытом сосуществование с властью, которая сама лжет и принуждает лгать других.
Она пытается оправдать собственные измены, как многие граждане страны, будут пытаться оправдать ложь властей. Очень слабо получается. Как слаб человек, вооруженный верой в утопию, когда приходит смерть или нечто, что опрокидывает и заканчивает предыдущее время. Это же повториться уже в 1942 году, когда муж умирал в больнице, а она проводила время с Георгием Макогоненко, которого она называла Юрой. И ничего не могла с этим поделать.
«Я начала свою жизнь с ним, любя его, но все во мне было какое-то другое, притушенное и неотступно сопутствовало ощущение, владеющее и сейчас, что я не имею права на новое счастье, чувство непоправимой вины перед погибшим мужем, чувство измены. Судьба делала мне вторично безценный подарок, дарила Юрия, а я принимала его с сознанием, что этот подарок временный, и при этом знала, что никогда не пройдет тоска о Николае, никогда не кончится траур. И в то же время, как у всех тогда, невероятная жажда жизни и счастья, страшное сопротивление всеобщей смерти.<...>»[69]
«Вероятно, двойная жизнь Берггольц окончательно оформилась со смертью Молчанова. В одной ее половине была правда, доступная только дневнику поэтессы; в другой - полуправда или полуложь ее официальных творений. Светлая половина ее души за свое выживание вынуждена была платить страшную дань темной своей половине - ложью, психозами, нервными срывами, запоями.»[70], — заключает Вячеслав Улыбин, из книги которой я уже приводил цитаты. Кстати, за это соединение лжи и правды ответственно то самое ощущение единовременности бытия, тот самый концепт Большого времени, который соединяет в одно мгновение все три времени известные человеку. Это «одно мгновение» снимает противоречие лжи и правды и дает по словам Ольги «невероятную жажду жизни и счастья».
В этом смысле стоит прислушаться к мнению Бориса Гройса, который считал, что «…пафос искренности, непосредственности, противостоящей «формализму» авангарда с его «приемами», воспринимаемыми как неискренние уловки, с его «пустотой сердца», холодностью, черствостью. Художник сталинской культуры — это медиум, спонтанно воспевающий и проклинающий, согласно внутренним велениям сердца. <…> Этот глубокий романтизм сталинской культуры, видевшей сердце художника одержимым либо божественной жаждой добра и благодарностью за это своему создателю — Сталину, либо попавшим в соблазнительный плен к «вредителю», — естественно породил в ней культ любви, как своего рода «внутренней утопии», сменившей внешнюю механическую утопию авангарда.»[71] Нельзя не согласиться с Гройсом, особенно с такой формулировкой о «внутренней утопии», которой переболели практически все современники этой непростой эпохи. Только в годы Второй мировой утопия приняла облик «Большого времени», если использовать терминологию самой Берггольц. Что касается фигуры Сталина в этих конструкциях «правды – лжи» и его влияния на умы таких людей, как Ольга то можно привести следующую цитату того же Вячеслава Улыбина: «Когда она рассталась со Сталиным? Никогда. Она до самой смерти сохраняла у себя толстую пачку газет с некрологами о Сталине. В некоторых из них было опубликовано и ее последнее сталинское стихотворение, посвященное кончине вождя.»[72] Видимо, это такая черта советских людей переносить на фигуры вождей и тиранов несбывающуюся никогда надежду на «земной рай» в отдельной взятой стране.
По менинию Натальи Прозоровой, автора исследования о Берггольц, она «…рано осознала несоответствие воображаемой идеализированной картины мира и реальной ≪мрачной≫ действительности.»[73] Причина веры в Ленина и в коммунизм также происходила из этого несоответствия между реальной жизнью и той, которой она хотела бы жить. Отсюда вера в советский строй даже после того, когда стало понятно, что это жесточайшая ошибка. Даже в смерти Ленина, точнее в его посмертном существовании есть нечто незавершенное. Фигура Ленина, его мумия в мавзолее, в самом центре страны напоминает остановившийся на середине реки челнок египетских фараонов, перевозивший мертвых через Нил в Страну Мертвых. Т.е. мумия Ульянова говорит о том, что земной рай нам неизвестен, некуда плыть и стремиться, с одной стороны, а с другой, есть тело, которое продолжает существовать и «ждать» прихода всеобщего и вечного благоденствия. В этой связи важен факт того, что мумия или тело Сталина не было сохранено. Развенчание лишило вождя этого права «ожидания» за все ошибки и «грехи» перед марксизмом-ленинизмом или перед утопией Модерна.
Теперь попытаемся сфокусироваться на той правде, которая была сосредоточена внутри человека и искала выхода в интимных и личных дневниках.
Правда как правда!
Среди разных образов, людей, фигур современников в дневнике Ольги Берггольц встречается удивительный образ некоего Владислава Невинского, то ли парторга, то ли партийного активиста, которых в те годы было полно в советском обществе. В самом начале 1933 года Ольга Берггольц делает заметку, которая при чтении производит сильное впечатление, от этой картины потом долго невозможно избавиться, от вида этой странной, и страшной, и инфернальной фигуры. Вот она:
«14/1-33
Владислав Невинский.
Угловатая, четырехугольная голова рахитика, красное лицо, расплывчатый нос, белые брови и ресницы, часто воспаляющиеся глаза. Лысина и белые, жирные волосы, размазанные по лбу. Левый глаз почти всегда подозрительно прищурен.
На заводе у Владислава - нерушимый авторитет. ОН ЗНАЕТ ВСЕ. Он приходит в цех, зная его подноготную, даже то, чего не знают сами рабочие. Когда говорит - берет одни факты, конкретнейшие факты, и на них строит речь.
Ни в одной речи, ни в одном выступлении не обходит он вопроса :классовой непримиримости и бдительности. Он багровеет, :когда говорит, с лысой головы ползут капли жирного пота. Он задыхается от ярости и ненависти, и руки у него начинают трястись.
Сегодняшний пример с анонимной запиской. Вместо общих фраз так - он указывает сразу - вот враг, ловите, держите, травите его, и все готовы по зову этого большого, уродливого человека – ловить и травить, и все, выступающие вслед за ним, начинают так же задыхаться от ярости и видеть конкретные факты, и дрожать.»[74]
Какая психологическая и физиологическая характеристика человека, коммуниста, борца с «врагами народа»! Нет, это визуализированная характеристика страха, который живет в животе у Ольги. Это состояние общества, замеревшее от каждого слова исходящего из пасти этого зооморфного существа. А может быть, это те изменения, о которых писали авторы упомянутого нами сборника 1928 года. Тогда получается, что «сталинским ученым» понадобилось всего десять лет, для таких качественных изменений людской породы, и ни евгеника, ни генетика им не понадобились.
Какую правду нес этот тип? Правду, которая была спущена сверху, правду, которую ему предоставили сексоты цеха, правду, про которую знали все. Но это была полуправда, правда, которая прикрывала остальную ужасную правду о положение дел в советской утопии. Описание Ольгой внешнего вида этого коммуниста напоминает нечто животное, страшное, не похожее на человека существо, которому отведена роль пса для растерзания зазевавшего, уставшего, сопротивляющегося, честного обывателя. Кстати, парторг из воспоминаний Берггольц имеет нечто общее с Палисандром из романа Саши Соколова.[75] Таким он мог стать со временем, полным мистики, ищущем врагов народа на этом и том свете и совокупляющемся по-животному со старыми коммунистками, дожившим до правления Андропова, согласно сюжету и хронологическим рамкам романа «Палисандрия». Чтобы изобличить врага он словно сам обращался во врага, совершая инверсию. Даже внешне он проявлял внутренний гнилой, звериный облик «врагов народа». Другими словами, чтобы соответствовать своей лжи о виновности невиновных людей он внешне становился похожим на собственную ложь, а в масштабах страны на ложь государственного уровня.
Еще он напоминает мне гибрид человека и телевизора, которого тогда, конечно, еще не было. Правда, это уже поздний образ, эпохи развитого постмодернизма и реди-мейда во всей его мощи и красе! Две ноги, руки, а там, где обычно расположен живот или брюхо торчит экран, из которого льется эта потная и жирная «правда». Это образ официальной машины пропаганды или официальной «правды» режима. И если для демократов всех мастей правда была важна, как смысл жизни, для Ленина «правда» в кавычках была важна, как инструмент ведущий народ к утопии, то при Сталине «правда» превратилась в силу для поддержки уже самого режима фальши. Мистический круг замкнулся. От Ивана Грозного и опричнины к падению Романовых и буржуазной революции с легким намеком на свободу и, обратно, от революции свободы к Сталину и новой опричнине: ежовщине-бериевщине, с мутными и мистическим и инфернальными личностями, такими как Владислав Невинский и Палисандр, ожидавщие и дождавшиеся-таки нового своего хозяина с Лубянки. В образе Невинского предстает антиутопия, переродившиеся мечты о светлом, переродившийся дух. Невинский — это ужасные реалии антиутопии, в которой оказалась вся страна.
Вот еще несколько кусков:
1936. «Положение вообще в Союзе не из веселых, по парт<ийной> линии много исключений, арестов и т. д. «Иду по трупам?» Нет, делаю то, что приказывает партия. Совесть в основном чиста.»[76]
1940. «Иначе, чем же объяснить, что только из-за войны с Финляндией так быстро поползло снабжение, нарушилась нормальная работа предприятий, железных дорог и т.д.»[77]
В марте 1941 за три месяца до начала войны Ольга признавалась:
«Я круглый лишенец. У меня отнято все, отнято самое драгоценное: доверие к Советской власти, больше, даже и к идее её... «как и жить и плакать без тебя?»[78]
Снова 1941 год:
«И все же я глубоко, бездонно несчастна, я обокрадена, обманута, низвергнута - безвозвратно. Я все равно погибну и жизни уже не будет. <...> я не женщина сейчас, не мать, не любовница, не человек, не гражданин, не писатель... Я кем-то придумана для войны, нарочно и злобно придумана...»[79]
И еще раз повторим важный фрагмент, прорвавшаяся правда сквозь толщи официальной пропаганды: «28/VIII – 41. Ровно два месяца войны. В этот день, два месяца назад, мы о ней узнали. Какой суровый подъем был, как все надеялись... а сейчас уныние, упадок, страх. Мы проигрываем войну – это ясно. Мы были к ней абсолютно не готовы - правительство обманывало нас относительно нашей «оборонной мощи». За восемь лет Гитлер сумел подготовиться к войне лучше, чем мы за 24 года.»
Это другая, настоящая правда, которую не в состоянии или почти не в состоянии контролировать Палисандры Невинские! 20 декабря 1941 года она пишет: «что за сволочи люди, неужели не понимают, что для человека значат эти 100 гр. масла! О, какая гнусная бюрократия всплыла сейчас наверх, как она дополнительно к фашистам мучит и тиранит нас!»[80]
В начале блокады она несколько раз упоминает о возможности отъезда. Т.е. она действительно планировала уехать из Ленинграда. Это говорит о том, что она совсем не собиралась становиться «мадонной Ленинграда», весь это пафос, на котором она поднимется после 1942 года и продержится почти до конца ее дней, совсем не планировался Ольгой. В дневник она продолжает заносить ежедневные боль, страдания и унижения, которым подвергалось ее тело и разум: «О, как я все время, все время хочу есть - это что-то дикое. Последние дни почти не могу работать из-за этого.»[81] Эта мысль типичная для всех авторов дневников блокадного Ленинграда.
Записи в январе 1942 года:
«Вместе со щемящей жалостью и любовью к городу у меня уже рождается отвращение к нему и ужас перед ним… Надоело! Надоела героическая оборона, мужество, гордость нами, все это дикое, противоестественное напряжение, бесконечные гробы, собственные стихи, слова, слова и слова - мучения. О, лучше, лучше было бы, если б не было этого ленинградского героизма и мужества - этот героизм - ужас, уродство, бред. Но раз так получилось, раз уж так дико устроен мир, что приходится жить в этом бреду (у нас случаи людоедства есть, даже трупы едят), - то слава тем, кто в этом бреду обретает счастье и чувствует, что живет, и вдруг наслаждается всей жизнью! Это носители Жизни, это она сама.»[82]
Апрель 1942:
«Живу двойственно: вдруг с ужасом, с тоской, с отчаянием - слушая радио или читая газеты - понимаю, какая ложь и кошмар все, что происходит, понимаю это сердцем, вижу, что и после войны ничего не изменится.»[83]
Как и в случае со знаменитой ее фразой о «незабытых» и «незабытом», которую можно использовать, говоря языком Станиславского, в определенных «предлагаемых обстоятельствах», тогда она не кажется такой «стертой» и неправдивой, — главное находиться внутри этой ситуации и верить в нее, тогда можно использовать эту фразу бесконечное количество раз, — так и вышеприведенный кусок о «героической обороне» может оказаться, на самом деле, «противоестественным напряжением», в котором человек утрачивает некие нравственные ориентиры. Таким образом мы подходим к понимаю правды под соусом постмодерна, если в утопиях Модерна могла еще существовать правда и убеждения, ради которых можно было жертвовать жизнью, то после утраты веры в Утопию, правда теряет границы и берега.И в таком случае, не собака виляет хвостом, а, наоборот, хвост виляет собакой.
Ольга оказалась права: после войны ничего не изменилось. Более того и после развала красной империи ничего не изменилось. Собака одетая в одежды дервиша не обязательно становиться дервишем, а остается собакой.
И поскольку я уже упоминал постмодерн (постмодернизм), и не раз, то в виде брежневского застоя, то в виде эпохи правления чекиста Андропова, следует пояснить причины бесславного конца поэтесса Ольги Берггольц. Дело в том, что новая эпоха не оставляла камня на камне от старой веры, в которой утопия и вера в нее определяла историческое развитие, борьбу различных сил, а также давала смысл человеческому существованию в его развитии и, особенно, финалу человеческого существования. Ольга давно стала подозревать, что никакого Царства гармонии и всеобщей любви коммунистам построить не удастся, о чем не раз писала в своем дневнике.
«На фоне того, что происходит кругом, - мое исключение, моя поломанная жизнь - только мелочь и закономерность. Как когда падает огромная глыба - одна песчина, увлеченная ею, - незаметна. Как взывать о доверии, когда у людей наступает недоверие черт знает к кому и чему?
Самоубийство Гамарника... 150 физиков и геологов. Арестованных в эту зиму... Теперь - вот суд над военными во главе с Тухачевским (еще не читала). Слухи об аресте Постышева и Манульского - это, пожалуй, вздор... Тот же Ягода... Господи, что же это?!
Да, травить и выкуривать изо всех нор, и если во время этого нужного выкуривания задели, “выкурили” меня - что ж... закономерно; но сопротивляться нужно, конечно... Чудовищно - ни за что, собственно, оказаться в одном ряду с врагами.»[84]
В такой ситуации, когда вера оказалась утраченой, молодость ушедшей, вождь умершим, идеология несостоятельной, когда все почести и привилегии, на какие мог рассчитывать советский «инженер человеческих душ» были ею получены, а сам творческий процесс давно зашел в тупик от отсутствия всяких смыслов в творчестве и собственном существовании, оставалась для Ольги опять двойная жизнь. Одна официальная, с изданием собраний сочинений, с записью программ на телевидении, выпуском фирмой «Мелодия» пластинок с ее стихами в авторском исполнении, встречами с советскими школьниками и, вторая, в которой была старая привычка к алкоголю, одиночество, воспоминания об ушедших дочерях и мужьях и пустота на том месте, где когда-то билась сильными крыльями мечта о жизни вечной.
[1] Вместо «хрустальных дворцов» еще в середине 19 века появились великолепные Пассажи, объекты пристального внимания Шарля Бодлера, а в 20 веке Вальтера Беньямина.
[2] Берггольц О. Ф. Мой дневник. Т.1: 1923-19291 составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. М. Горяевой, Н. А. Стрижковой; комментарии, указатели О. В. Быстровой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2016. — С.74
[3] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.147
[4] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.148
[5] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.214
[6] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.213
[7] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.249
[8] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.108
[9] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.173
[10] Берггольц О. Дневные звезды // Дневные звезды. Говорит Ленинград! Сост. М. Ф . Берггольц.- М. : Правда, 1990. — С.7
[11] Берггольц О. Указ. соч. — С.20
[12] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.179
[13] Берггольц О. Ф Указ. соч. — С.184
[14] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.202
[15] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.65
[16] Берггольц О. Ф. Мой дневник. Т.1: 1923-1929 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. М. Горяевой, Н. А. Стрижковой; комментарии, указатели О. В. Быстровой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2016. — С.149
[17] Йогансен М. Вибрани твори. — К. Смолоскип, 2001 — С.498
[18] Гастев А. Юность, иди! — М.: Издание ВЦСПС, 1923. — С.27
[19] Васюткевич Я. Йогансен Майк - розстріляний модерніст! — https://cinebus.org/yogansen-mayk-rozstrilyaniy-modernist
[20] Олеша Ю. Книга прощания. — М.: Вагриус, 1999. — С.43-44
[21] Берггольц О. Ф. Мой дневник. Т.1: 1923-1929 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. М. Горяевой, Н. А. Стрижковой; комментарии, указатели О. В. Быстровой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2016. — С.435, 472
[22] Жизнь и техника будущего (социальные и научно-технические утопии) / Под ред. Арк. А-на и Э. Кольмана. — М, Л.: Московский рабочий. 1928. — С.181-182, 184
[23] «Мир, который обещала построить установившаяся в России после Октябрьской революции власть, должен был стать не только более справедливым или гарантировать человеку большую экономическую обеспеченность — он, быть может даже в большей степени, должен был стать прекрасным» (Гройс Б. Утопия и Обмен (Стиль Сталин. О Новом. Статьи). Москва.: Знак, 1993. — С.11)
[24] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.15
[25] Берггольц, О. Ф. Ольга. Запретный дневник : дневники, письма, проза, избранные стихотворения и поэмы Ольги Берггольц / О. Ф. Берггольц ; [авт. проекта Наталия Соколовская]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010.
[26] Красовицкая Т. Ю. Нормальный человек сам с собой не беседует... // Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.10
[27] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.212
[28] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.397
Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.231[29]
[30] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.76
[31] Берггольц О. Первый снег // Избранное. — М.: Советский писатель, 1948. — С.16
[32] Берггольц О. Два вступленияк трагедии «Слава города» // Избранное. — М.: Советский писатель, 1948. — С.100
[33] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.232
[34] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.529
[35] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.536
[36] Трифонов Ю. В. Дом на набережной // Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 2. Повести/ Редкол. С. Баруздин, Ю. Верченко, Ф. Кузнецов и др.— М.: Худож. лит., 1986.— С363-494.
[37] Слезкин Ю. Дом правительства. Сага о русской революции / Юрий Слёзкин. — М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2019. — 976 с.
[38] Кулиш В. Слово про будинок «Слово» (Спогади). — Торонто: Видавництво «Гомін України», 1966. — 70 с.
[39] «Будинок Слово», режиссер Т. Томенко, 2021. - https://www.youtube.com/watch?v=VrAlxSL0aCU
[40] Все же, справедливости ради следует сказать, что последней надеждой и проектом на «светлое будущее» в рамках советской системы была и осталась горбачевская перестройка. Это был максимально утопический проект, однако, единственный проект советских властей, который при осуществлении бережно относился к самим людям.
[41] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.542
[42] Берггольц О. Ф Указ. соч. — С.586
[43] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.299
[44] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.254
[45] Жизнь и техника будущего (социальные и научно-технические утопии) / Под ред. Арк. А-на и Э. Кольмана. — М, Л.: Московский рабочий. 1928. — С.183-184
[46] Берггольц О. Ф. Мой дневник. Т.1: 1923-1929 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. М. Горяевой, Н. А. Стрижковой; комментарии, указатели О. В. Быстровой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2016. — С.546
[47] Павловский А.И. Ольга Берггольц // Берггольц Ольга. Избранные сочинения. — М.: Советский писатель, 1983. — С.11
[48] Берггольц О. Дневные звезды // Дневные звезды. Говорит Ленинград! Сост. М. Ф . Берггольц.- М. : П р а вд а , 1990. — С.63
[49] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.558
[50] Улыбин В. И лжи заржавеет печать... Двойные звезды Ольги Берггольц / Вячеслав Улыбин. — СПб.: Алетейя,2010. — С.99
[51] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.354,355
[52] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.475
[53] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.200, 206
[54] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.446
[55] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.375
[56] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.448
[57] Берггольц. Из блокнота // Избранное. — М.: Советский писатель, 1948. — С.35
[58] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.557
[59] Берггольц О. Февральский дневник // Ленинградская поэма. — Л.: ОГИЗ, 1942. — С.30
[60] Берггольц О. Ленинградская поэма // Ленинградская поэма. — Л.: ОГИЗ, 1942. — С.41
[61] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.279
[62] Берггольц О. Ф. Указ. соч. — С.77
[63] Улыбин В. И лжи заржавеет печать... Двойные звезды Ольги Берггольц / Вячеслав Улыбин. — СПб.: Алетейя,2010. — С.102
[64] Берггольц. Три стихотворения дочери // Избранное. — М.: Советский писатель, 1948. — С.10
[65] Синебас Ян. Метажизнь Юрия Олеши по кличке «писатель» — https://cinebus.org/metazhizn-yuriya-oleshi-po-klichke-pisatel-chast-1
[66] Берггольц. Попытка биографии // Берггольц Ольга. Избранные сочинения. — М.: Советский писатель, 1983. — С.57
[67] Берггольц О. Родине // Берггольц Ольга. Избранные сочинения. — М.: Советский писатель, 1983. — С.167
[68] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.338
[69] Улыбин В. И лжи заржавеет печать... Двойные звезды Ольги Берггольц / Вячеслав Улыбин. — СПб.: Алетейя,2010. — С.173
[70] Улыбин В. Указ. соч. — С.130
[71] Гройс Б. Утопия и Обмен (Стиль Сталин. О Новом. Статьи). Москва.: Знак, 1993. — С.66
[72] Улыбин В. И лжи заржавеет печать... Двойные звезды Ольги Берггольц / Вячеслав Улыбин. — СПб.: Алетейя,2010. — С.110
[73] Прозорова Н. А. Ольга Берггольц: Начало (по ранним дневникам). — СПб.: ООО ≪Издательство „Росток"≫, 2014. — С.25
[74] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.181
[75] Соколов С. Палисандрия: Роман. Эссе. Выступления. — СПб.: Симпозиум, 1999. — 432 с.
[76] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.378
[77] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.585
[78] Улыбин В. И лжи заржавеет печать... Двойные звезды Ольги Берггольц / Вячеслав Улыбин. — СПб.: Алетейя,2010. — С.102
[79] Улыбин В. И лжи заржавеет печать... Двойные звезды Ольги Берггольц / Вячеслав Улыбин. — СПб.: Алетейя,2010. — С.41
[80] Улыбин В. Указ. соч. — СПб.: Алетейя,2010. — С.45
[81] Улыбин В. Указ. соч. — СПб.: Алетейя,2010. — С.49
[82] Улыбин В. Указ. соч. — С.51-52
[83] Улыбин В. Указ. соч. — С.132
[84] Берггольц О. Ф. Дневник. Т. 2: 1930-1941 / составление, текстологическая подготовка, подбор иллюстраций Н. А. Стрижковой; вступительные статьи Т. Ю. Красовицкой, Н. А. Стрижковой; комментарии И.А. Громовой, Н. А. Стрижковой. - М.: Кучково поле, 2017. — С.446