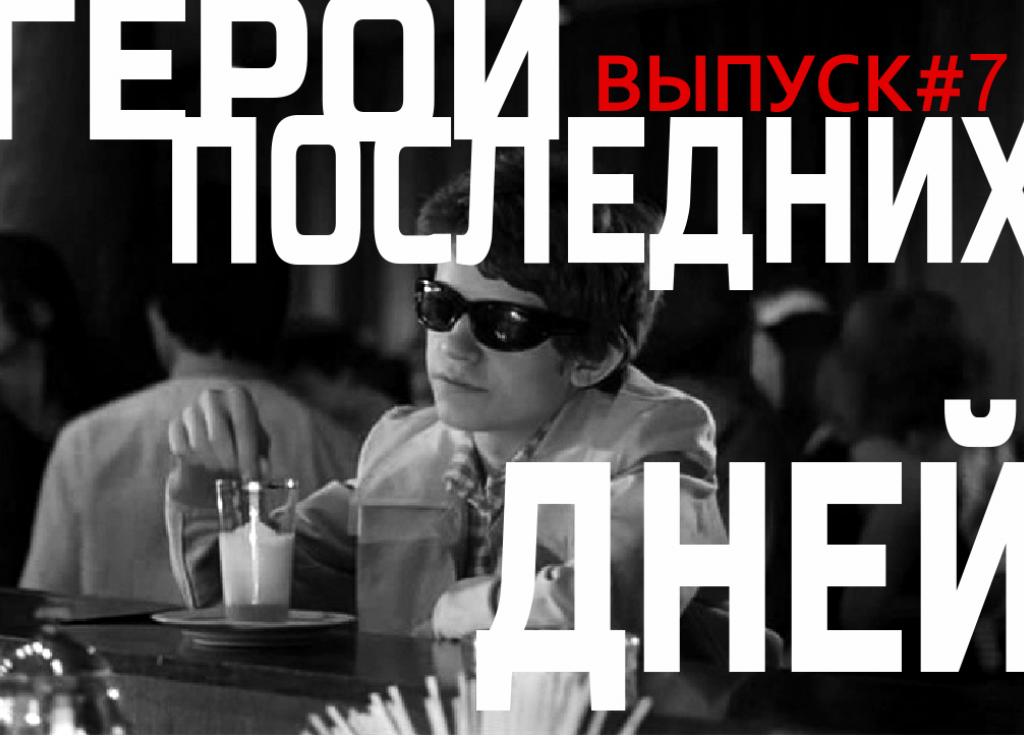12.11.20 09:11

(Окраина как концепт «земного рая» или предчувствие войны в творчестве Петра Луцика и Алексея Саморядова)
Кто он, главный герой?
Побег из никуда в никуда, из прошлого в новое прошлое, а будущее только — миг. Таков топос Петра Луцика и Саморядова, заявленный почти в самом начале их творческого пути. Гражданин убегающий – это не про отдельного человека, геолога, неприживающегося нигде, а слепок времени, где человек не имеет дома, а только стремиться и, уже не к дому, как материальному объекту, а как к культурной, онтологической, личной парадигме, как к понятию, способному приютить не тело, а дух за горизонтом, вне всяких границ. Побег, во- вторых, это про себя самих, про авторов, а в-третьих, побег, это поиски тех границ, где кончается хаос распада и начинается дикое поле гармонии. Не зря молодые Луцик&Саморядов напишут сценарий о границе, о государственной границе умирающего государства, исчезающей родины. Во времена мобильного/шаткого лимеса, актуальными становятся поиски тех границ, которые формируют человека, придают его телесному и, главное, духовному существованию определенную, спасительную, необходимую форму существования. Поэтому герой короткометражки Елены Цыплаковой Гражданин убегающий находится не только в безутешных поисках исчезающих границ, но и пребывает в конфликте с самим собой [i].
Здесь мы наблюдаем известный кризис самоидентификации, который часто посещает индивидуума в минуты роковые. Именно на фоне подвижных, тектонических изменений в архитектуре истории Советского Союза, который медленно, но верно и главное бескровно, уходил под воду мелкими и большими кусками территорий и другими нематериальными явлениями, именно в такой период активизируется рефлексия, поиски и попытки самоидентификации человека. Герой Луцика и Саморядова сценария День саранчи, по которому в 1990 году режиссер Михаил Аветиков снял фильм Савой (сценаристы в итоге убрали свои фамилии из титров картины) инженер Сергей Гусев и является таким рефлексирующим среднестатистическим гражданином недавно могучего государства. Более того, Сергей это изнанка его авторов, таких же рефлексирующих интеллигентов Советского Союза, верно и медленно утрачивающих ментально-идеологическую почву под ногами и ничего не получающими взамен. Только туман и зыбкость будущего, истории, которая была еще впереди.
У героя сценария День саранчи несколько определений. Во-первых, он москвич, во-вторых, инженер, офисный работник, потом он рогоносец, как это явствует из первых событий в сценарии, предшествующих его азиатской командировке. А дальше, больше. Еще в осколочной Москве конца 80-х — начала 90-х, его в шутку называют «колонизатором» [ii], видимо, предсказывая его скорое будущее, скорое перерождение Савла в Павла. В контексте следующих событий, это достаточно знаковая характеристика Сергея Гусева. «Колонизатор» предполагает определенный цвет кожи, конечно, белый, определенный гендер, конечно, маскулинного типа, определенный характер, конечно, обладающий харизмой и волевыми качествами. Однако что-то происходит не так, Сергей появляется в степи, в широтах азиатских совсем непривычно, не на перроне провинциальной столицы, выходя из скорого и фирменного московского поезда, а отстав от поезда, появляется, словно с черного хода. Поэтому его предыдущая идентификация, которую мы описали, оказалась не у дел.
«— Я потерялся, — Сергей озирался, поправляя на себе тряпки. — Я из Москвы… Живу в Москве. — Он постарался сказать это гордо. — Я нормальный человек. У меня там… жена…»[iii].
Все его маркеры географические, качественные, социальные, гендерные и пр. оказались невостребованными в новых сложившихся обстоятельствах. Он пытается доказать себе через казахов (покоренных туземцев), которые на него подозрительно смотрят, что он нормальный, пытается вспомнить себя нормальным, а ведь таким он не был уже давно в Москве, на своей работе, в своей квартире, с женой. Вспомним, еще там он находился в зоне исторической турбулентности и нестабильности образов и времени [iv]. Уже там проблема самоидентификации в особые исторические периоды, в «минуты роковые», как писал классик, находилась на острие его рефлексий.
Оказывается, когда человек (белый, русский, советский, колонизатор, инженер и т.д.) появляется в степи, на азийских просторах не через «парадную дверь», не сходит со ступенек московского поезда, или не сбегает по трапу с московского борта Аэрофлота, происходит «расколдовывание» образа белого колонизатора. Туземцы оказываются вовсе не покоренными, а весьма воинственными и самодостаточными на своих территориях. Петр Луцик и Алексей Саморядов «опускают» своего белого героя на самое дно азиатского базара, где оказались, например, вчерашние колонизаторы, а ныне русские «дервиши», герои романа Андрея Волоса «Хуррамабад» Коля Ямнинов, Дубровин и пр. Так герой новеллы Свой из книги Хуррамабад, кстати, тезка героя Дня саранчи, Сергей Макушин, по стечению обстоятельств приезжает на восток и быстро из местного научного института перекочевывает в базарную пирожковую, где служит кем не попадя, а говоря просто: чернорабочим, рабом.
«— Нет, — сказал вдруг Фарход, — Нет, не понимаю. Ну вот посмотри! Ну был бы я уважаемым человеком, научным, ходил бы с портфелем.. была бы у меня русская жена… беленькая такая, синеглазая… И что же, я бы это все бросил и пошел бы работать в пирожковую к Толстому Касыму? Да что я, сумасшедший, что ли?» [v]
Так удивлялся, возмущался местный знакомый Сергея Макушина, который быстро превратился из Сергея в Сирочиддина. Кстати, фигура Сергея Макушина смахивает на профессора лингвиста или филолога из рассказа Пола Боулза Далекий случай [vi]. Пол Боулз не наделяет своего персонажа именем, но выделяет из массы только его профессиональными способностями, лингвист, который работает с языками и языком. Сюжетно это очень важный фактор. Без него рассказ о французском профессоре был бы иным. Очень скоро попав в плен и в рабство местным племенам, профессор лишается языка, его просто отрезают у лингвиста. Потеряв язык, профессор совершает в рамках рассказах свое путешествие вниз по социальной лестнице от колонизатора и профессора до раба и шута, танцующего на базаре странные танцы. И главное, он не произносит далее ни единого слова. Так завершается его путь, путь белого профессора от себя внешнего к себе внутреннему. Сергей из романа или города Хуррамабад не лишается языка, нет, он скорей всего, добровольно отказывает себе в знание своего родного языка и переходит на местный таджикский. Делает все, чтобы из Савла обратиться в Павла. У каждого свой путь вглубь.
Сюжетно два Сергея похожи, оба по делам командировочным оказываются в советской Средней Азии, накануне, распада СССР, оба пытаются выжить и перерождаются. Только главная разница между ними в том, что один Сергей (Макухин из новеллы Свой) добровольно выбирает свой путь, а другим Сергеем (Гусевым из Дня саранчи) ведет ненависть. Ненависть к людям, которые озабоченны исключительно своим существованием. К стране, которая равнодушна к тем душам, от которых до последнего времени получала доход. Поэтому герой Андрея Волоса остается на востоке и обретает покой, от стычки между местными группировками, рвущимися к власти:
«Кто-то навалился на него, яростно хрипя, Макушин задергался, выворачиваясь, и тут широкое черное лезвие уратюбинского ножа распороло ему печень… Ему стало на мгновение обидно, но умирал он все-таки счастливым — его признали своим.» [vii]
А у Луцика&Саморядова Сергей и не планировавший становиться своим, оказался стопроцентным баем, поскольку вооружился тем самым «уратюбинским ножом», хотя вначале сценария начинал вот так: «Он стоял на коленях не в силах двигаться и, наклонившись лицом, ел прямо из миски.»[viii] словно профессор из Далекого случая Пола Боулза. Инженер отправился на поиски, вглубь себя, да прошел мимо всех ориентиров и указателей, оказавшись опять на бурной поверхности мелкого настоящего.
Любовь Бугаева отмечет, что «Стеклов[ix] играет героя, не только не приспособленного к тем условиям, в которых он оказывается, но и как будто не понимающего ни того, что происходит вокруг него, ни своей роли в происходящем. В фильме практически нет слов, звучащая речь героев сведена к немногочисленным репликам. Метафора раба, каковым инженер Гусев является на соляных копях, проецируется на другие ситуации с его участием, разрастаясь до метафоры человека в мире, изменений которого он не понимает и управлять собой в котором не может.»[x]
Однако, в отличие от Бугаевой, я думаю, что инженер Гусев очень скоро «разобрался» со всеми историческими вызовами. Происходит, как в сказке стирание одной личности, чтобы проявилась, родилась личность героическая. Московский инженер Гусев проходит обряд инициации, который стирает практически все прошлое человека. Пройдя через различные испытания, инициации, герой сбрасывает свою старую шкуру, чтобы с новой обрести новую силу и новые качества духа. Измены жены, распад страны, исчезновение Москвы за километрами различных климатических и ментальных зон, отказ от старых статусов в новых исторических и территориальных условиях вынужденно, порой насильно, меняют человека, меняют личность. И на вопрос советских туристов-бардов гуськом шагающих по горным тропам и дорогам: «Вы местный?», он согласно кивает головой. Да, он местный, не территориально, а мировоззренчески. Он готов стрелять, бить, жить согласно правилам местной истории и мелкого настоящего.
«В саду за столом сидели все немцы… Сергей, откинувшись, с удовольствием курил. Справа и слева его подталкивали качающиеся и жестами предлагали петь, но он только курил и щурился. На нем был светлый в клетку костюм, волосы расчесаны назад. Он стал беловолос и черен кожей.»[xi]
Здесь практически закончились его метаморфозы. После «работы» на патриархальную, даже, колхозную, немецкую мафию, Сергей практически, как былинный герой готов к подвигам, которые по законам-мотивам возвращения домой Одиссея, приведут инженера Гусева в столицу, в Москву, но уже не как покорного или находящегося в когнитивном диссонансе от распада страны человека, обывателя, а как белого «азиата-колонизатора», готового покорить гнилой внутри, но еще соблазняющий своими поверхностными кожами, столичный город. Инженер Гусев возвращается, восточным деспотом, баем, ханом своей махалля, способным разрушить то место, которое когда-то было слишком велико для него и которое принесли много боли. Теперь он вернулся, чтобы мстить за то унижение, которое он испытывал, живя в Москве, теперь он набрался сил в вольной степи, в восточной стороне, где нет писаных законов, но новую силу свою он не растратил там, на востоке, а с ее помощью готов уничтожить «златоглавую» метрополию. Сжечь столицу как блудницу — любимый мотив тандема Луцика—Саморядова.
Метрополия – зло
В сценарии Дюба-Дюба есть такой диалог:
«— А ты? Столичная штучка, сколько раз ты была в Москве! Разве это столица…
— Ни разу, вот еще, бывать в этой вашей пошлой Москве!» [xii]
Все пошлое предается огню и столица тоже.
Практически всегда, как только Луцик и Саморядов пишут о златоглавой метрополии, она упоминается как ущербное место, где герой не то чтобы приобретает, но наоборот, утрачивает свою силушку богатырскую. Москва соблазняет и подчиняет, у сценаристов выстраиваются со столицей соподчиненно-зависимые отношения. Она и манит и убивает, радует красотой и ослепляет, как в Гонгофере. Это место силы и место, где сила уходит от героя. Москва – это сладкое лоно и ужасное логово, болото, смертельный капкан. Герои сценаристов пытаются, как мачо обладать златоглавой блудницей-столицей, одновременно, пытаясь уничтожить ее и не быть уничтоженными ею.
«Иван нырнул в пролом и оказался во дворе какой-то фабрики. Он огляделся, прислушиваясь к неясному механическому шуму. Прошел вдоль ряда грузовых машин, гигантских кабельных катушек и вышел прямо к цеху… Огромные окна цеха ярко горели, воздух и земля колебались от гула невидимых станков.» [xiii]
Вновь и вновь у Луцика и Саморядова предметный мир, мир материальный, ландшафты и пространства существуют, ощетинившись, рыча, выставив клыки, как та собака, которую Иван, персонаж сценария Кто-там, внутри… назвал "хорошей". При этом, как это видно из фильма герои живут в столице затухающей империи. Каждый раз, из сценария в сценарий проходит красной нитью мысль, что метрополия, столица, город - это место, где можно добиться многого, распрощавшись с самим собой, как с субъектом жизни, в итоге встретить свою смерть. Город не место для жизни, это место утрат, внутренних преобразований человека со знаком минус.
Нечто похожее мы наблюдаем в Северной Одиссеи. Приключения русских в Америке вместо вестерна по сути своей смахивают на монологи сатирика Задорнова, который "чихвостит" от души америкашек. Здесь все натянуто, переиграно, доминирует одно чувство: обида на другую страну, на другую жизнь. Обида, и я бы добавил, зависть. У Луцика и Саморядова часто герои предстают в инверсивной форме, если в Азии они люди «белые», метрополисты, то в Северной Америке, наоборот, они выглядят скромными дикарями, покоренными «азиатами», в шубах и кроссовках, шокирующих среднего американца [xiv]. Вестернизация не происходит, не клеится.
Зло метрополии разливается и дальше, за пределы железного занавеса, за «поребрики» империи. Вот — Анна, героиня одноименно сценария, кричит в трубку:
«— Это я, да, — заплетаясь, сказала она в трубку, — два билета в Будапешт или в Бухарест, на сегодня. Нам куда нужно? — спросила она Александра. — В Будапешт или в Бухарест?» [xv].
А это великоимперская неразбериха, и нежелание понимать тонкости и нюансы чужой жизни. Для метрополиста это просто Балканы, территория, которая покорена или следует покорить.
«— Так вот, в Крым с России, как я подсчитывал, с двенадцатого века невольников гнали, чуть не каждый год, а при Орде и по четыре раза за год, знаете, и до ста тысяч уводили, аж до Петра Первого, это пятьсот лет получается. Это, как хочешь занижай, а не меньше пяти миллионов только живых невольников, а сколько гибло, а при набегах рубились! Тьма народу. Что ж теперь получается. Теперь вроде Крым и не Россия, — он помолчал, потом добавил мрачно. — Продали нас, что и говорить. Ну да ладно. Я пока еще жив, сыны подрастут, разберемся.» [xvi]
Герой сценария Анна рыбак, боец, любитель крепко выпить и кулаками помахать Александр, указывает на периметр вокруг метрополии, территории, которые насильно втянуты в орбиту империи и, которые никак не впишутся, оставаясь выпуклым, рельефным поясом вокруг репрессивного Центра. Там давно нарушен естественный ход вещей, империя перевернула все с головы на ноги, но и уезжая в столицу автохтоны не находят покоя и живут неприкаянные, в ожидании бунта. Путешествуя в приключениях по периметру, они однажды оказываются в столице, чтобы оставить там душу, как в Гонгофере или поджечь сердце Метрополии, как в Окраине или в короткометражке Канун. Бездомный крымский рыбак Александр скептически настроен к столице, он не собирается ее покорять, он цельная натура советского образца, сохранившая внутренние ориентиры, несмотря на окружающий социальный и политический хаос. Это не герой Янковского из Полетов во сне и наяву и не Гоша из меньшовской оскароносной саги Москва слезам не верит, здесь другой уровень рефлексии, он больше похож на антагониста Таксиста из фильма Павла Лунгина Такси-блюз. Поэтому Александру и покоряется столица, точнее, готова покориться, но он мечтает только о побеленной хатке на краю Черного моря и, конечно, о девице с русыми волосами и упругим бюстом, которая хлеб с черной икрой будет подавать. Чем это закончилось однажды для других персонажей империи, мы знаем на примере Белого солнца в пустыне Владимира Мотыля.
Гораздо лучше и интереснее получаются приключения пассионарных жителей империи в самой метрополии, например, как это вышло у Петра Луцика в Окраине. Но дело в том, что там приключения-бунт подданных направлен на саму империю. Уничтожая "неправильных" подданных, воров и миллионеров, чиновников-бюрократов и приспособленцев они, тем самым, уничтожают основы власти империи. Других основ, другой власти в империи не было и никогда не будет. Она исторически нелегитимна. Хорошо мечтать в провинции, в почти вольных хуторах о справедливой и сильной родине, но входя внутрь системы невозможно оставаться вольным, справедливым и маргинальным. Подданный или служит империи и ее негативным сторонам или борется и тем самым разрушает империю, так называемую родину. Заметьте, герои не приживаются ни в столицах и метрополиях, но так же враждебно, по колониальному настроены к территориям и ее автохтонам азиатским, восточным. Сам же они пребывают в срединном месте, на пограничной территории между метрополией и покоренной провинцией. Степь, вольные хутора, пограничье, со своим укладом и понятиями справедливости, чести, добра и любви, с понятиями весьма простыми, вот мир, вот воля героев Луцика и Саморядова.
Таким образом, в творчестве Луцика&Саморядова проявились две взаимосвязанные тенденции: желание Метрополии раствориться на окраинах ойкумены, в Степи и море пограничном, а у Провинции покорить Центр своим хаосом, естеством природной жизни, звериной правдой. Оба эти желания сливаются в совместном насилии, бунте, исторических обидах, а на индивидуальном антропологическом уровне обозначены утраченными человеческими иллюзиями, желаниями и целой жизни.
Родина – Степь?
Повторим вот этот момент еще раз:
«…Теперь вроде Крым и не Россия, — он помолчал, потом добавил мрачно. — Продали нас, что и говорить. Ну да ладно. Я пока еще жив, сыны подрастут, разберемся.» [xvii]
Здесь все тот же разговор на тему "верните землю" [xviii]... История в Крыму и на Донбассе можно трактовать как заигрывание все той же власти с уже не теми казачками. Мол, вот вам, сами просили землицы. Берите, правда, маленечко не та, о которой вы просили, но тоже ничего. Иначе вообще ничего от нас не получите. Дождался рыбак Александр и старший брат бодровского/балабановского Брата. За Севастополь все ответили. И даже кто-то что-то получил… Точнее получилось как Луцик&Саморядов и писали: «…а сколько гибло, а при набегах рубились! Тьма народу. Что ж теперь получается.»
Так «златоглавая блудница» отводила угрозы от своих куполов-маковинок. Отправляла пассионариев на границы, чтобы через их трупы и кровь прирастать территориями, чтобы отодвигать от своих неестественных границ азиатский хаос, звериную правду.
«— Сначала ловил рыбу, — Александр подворошил хворост в костре. — Потом на Волге был. Потом в степь ушел.
— А в степи что делал? — она посмотрела поверх огня на его лицо.
— Ничего. Просто ходил.
— Долго?
— Не помню, — он улыбнулся по-детски. — Потом на соляных шахтах работал. Потом снова рыбу ловил на Азове. Теперь вот вроде спортом занимаюсь.» [xix]
«…Так вот его удар хватил, у него дочь в Донецк убежала с одним парнем. Он лежит, и все в ноге отнялось…» [xx]
Заповедная география сценаристов: Волжские степи, Крым, Азов, Донецк, Степь, Окраина. Кстати, работа на соляных шахтах перекликается с рабским трудом инженера Гусева из Дня саранчи, который тоже попал невольником на подобные шахты только в Азии. Заповедная география – это география жизни Луцика и Саморядова. Это lebensraum рыбаков и генеральные планы самой Метрополии, или иными словами — это обещанный, навязанный, идеологический, псевдоисторический “рай на земле”. Мечты провинциалов, уехавших в Метрополию о том, что однажды они вернуться из похода, с войны в свой хуторок в степи, где правда и начало начал. Этим путем прошли Катаев, Олеша, Саморядов, Луцик и другие инкорпорированные империей граждане окраин.
Вернуться в степи, чтобы на кургане провести скифский обряд тризны, в память погибших и не вернувшихся с имперских войн рыбаков, пастухов, заправщиков, охранников в супермаркетах, трактористов и пр. и пр. Смотрите, как красиво в Диком поле описано тандемом сценаристов похожее действие.
«В степи, на кургане, сидели вкруг мужики с хуторов, пастухи — всего человек двадцать. В кругу, на расстеленном брезенте, стояли бутылки с водкой, кружки, лежали хлеб, мясо, овощи. Вокруг, сколько хватало глаз, простирались холмы. Жаворонок пел где-то над степью.» [xxi]
Нечто среднее между Гоголем и Чеховым. Теперь не скажешь, что пить водку не вершине кургана по-скифски - это признак чужеродности, нездешности этих людей. Нет! Ведь каждый холм и холмик окроплен кровью. А что-то в этом ритуале на «брезенте» не то, какой-то эрзац-ритуал получается. Покуда империя держит их на расстоянии, покуда они подданные империи, они невольные, а значит, живут не на свое территории. Степь чужая им!
«— Здесь можно жить вечно, — сказал Митя. — Здесь не умирают люди. Если захочешь можешь прожить здесь тысячу лет…» [xxii]
А это правда! Самая чистая, правда! Это тайное знание, воспринятое чужакам степи, они узнали о тайне, но не разгадали саму тайну, как это жить вечно? Вечно пить и страдать, вечно убивать и вечно умирать научились, широко, по-имперски, а жить вечно не научились. Не нашли этот источник, дарующий жизнь вечную. И не нашли, несмотря на то, что это уже третье поколение колонизаторов степи все одно они чужаки в степи.
Функции этих людей просты: служить живым щитом, напоминать автохтонам, кочевникам о мощи имперского орла. Исходя из этого, трудно говорить об этих воинах, как о коренных жителях лимеса. Дело в том, что у империи никогда не было и не будет постоянной границы. Она больше из области диффузии и инвазии, накатывает и откатывает, поэтому родина для таких воинов больше происходит из области идеологий и мировоззрений, чем из прямого факта рождения на конкретной земле. Потомки солдат - это потомки солдат, но не автохтоны, пусть они и привыкли к запахам степи, разливающимся просторам при восходящем каждый день солнце.
Вспомним, как вел себя московский инженер Сергей Гусев в степи:
«Вернулся немного назад, пошел чуть правее. Наткнулся на какую-то рослую траву. Что-то зашевелилось в ней. Сергей рванулся и побежал назад. С разбегу влетел в какую-то яму с камышами и водой. Перед ним захлопали крылья, заметались тени.
Сергей дико закричал, снова побежал назад.
Падал, вскакивал, проваливал, проваливаясь в ямы…
Он стоял и дрожал от холода и страха. Плотный мрак окружал, давил его.
Сергей робко делал шаг, ступал ниже. Еще шаг — еще ниже, еще круче. Он делал шаг в другу сторону, и снова нога уходила куда-то невероятно вниз.»[xxiii]
Встреча со степь говорит о том, что пришлый "колонизатор" и степь совершенно разные, ни принимающие, не понимающие друг друга и только насилие и планомерность помогли таким Сергеям завоевать Степь.
У Саморядова и Луцика Провинция - это место, где человеку невозможно жить, только выживать. И это касается и лелеяной и воспетой дуэтом сценаристов знаменитой Окраины, там, где гармония, любовь, порядок, иерархия, как благо для всех. В реальной жизни воспетая Окраина оказывается ощетинившимся Шанхаем, где дети чугунных богов, закованные на территории заброшенных заводов и шахт, вечно воюют с автохтонами, кочевниками за призрачные ресурсы и территории, которые в центре, в Метрополии по привычке называют Lebensraum.
Дешт-и-Кыпчак, Дикое поле, Окраина, Степь, Земной рай
(с) Геннадий Фисун
Родина, девушка, женщина, смерть
«Из спальни вышла заспанная жена. С презрением следила, как он корчится над раковиной.»[xxiv]
Теперь предлагаю разобраться в семантических связях таких понятий как Родина и жена, женщина и смерть. Если предположить, что жена — это страна, которая отвернулась, оттолкнула Сергея Гусева из Дня саранчи, то, тогда становится понятным его метаморфозы от жалкого программиста до восточного бандита, краснобая (довольного собой и хозяина жизни). Вкусив свободы, и возможности/допустимости любого поступка и проступка, где он мог брать все, что захочет и богатство и любовь невольных женщин, инженер Гусев не смог жить в Москве "как раньше", в его крови было слишком много свободы и кислорода, которые не находили выхода в столице с ее жесткой социальной стратификацией. Здесь он вновь должен был обратиться из Павла в Савла, стать Сережей, рядовым программистом, офисным червем, вынужденным терпеть унижения от начальства, терпеть измены жены, терпеть и терпеть. Таким образом, становится понятным выстрел Сергея в ресторане, он готов убивать, но не смог стать сильнее, вписаться в иерархию столицу, его азиатские подвиги были хороши, как рассказы для националистически настроенных граждан, но не для тех, кто устроился в Москве, для них он так и остался "рогоносцем» Сережей. Выход для него был один, не считая возвращения в пустыню, выход - выстрел, выход - убийство и получение нового статуса после смерти. Мертвый он может, с легкой руки журналистов, подхваченный идеологическими ветрами стать легендой, памятником для других, памятным барельефом на стене дома, портретом на предвыборном бигборде. Т. е. и после смерти Сергей не смог обрести собственный смысл, и после смерти им пользовались в угоду собственных целей. Т.е. страна, родина не нуждалась в возвращение народного героя Гусева в столицу, он нужен был только там, на периферии, в непокорных провинциях, там его смерть могла с легкой журналисткой руки быть поводом для ввода его в пантеон героев, павших в борьбе за независимость, например, Кукурузной республики. А смерть в лоне «златоглавой блудницы» ничего не добавило бы в агиографические страницы инженера Гусева, она просто бы осталась незамеченной, в лоскутно-расползающейся Москве 90-х.
Как только образ женщины, жены, девушки из условно-обобщенного уровня конкретизировался, обретал живой образ, исчезала негативная тень, тень смерти. Чаще всего такой конкретный живой образ у Луцика&Саморядова был связан с молодой девушкой. Например, такой предстает Таня Воробьева из сценария Дюба-Дюба.
«Господи, и за что так-то, девочка ведь еще совсем. И никаких таких особых тряпок у нее не нашли, и денег, ничего. Уже, правда, лучше бы ограбила или убила, чем так. Глядишь, минутку пожила бы…»[xxv]
Вот она достоевщина, право имею или нет? Только тут пожить для себя, жить миг, хоть мгновение. Взмах топора и мгновение полнокровной жизни. Без всяких мыслей о перестройке человечества, только самой, только самому бы пожить секунду, за которую потом не жалко и в тюрьму и на каторгу, за которую и не стыдной перед целой жизнью. Только бы обладать, слиться с идеальным, умозрительным образом женщины, жены, девушки, способной успокоить, приголубить, накормить, с поцелуем даровать мгновенную жизнь вечную. Этот образ девушки кочует из сценария в сценарий. Такова девушка в короткометражке Канун, или образ возлюбленной врача Мити из Дикого поля. Вот из того же сценария Дюба-Дюба:
«Женщина стояла перед ним, изящная и стройная, строгая, в простом, но необыкновенно идущем ей светло-голубом платье, обрисовавшем ее упругие свободные груди, тонкую талию, тугие бедра, длинные легкие руки в простых браслетах; тонкая, чистая шея, охвачена голубенькими бусами, и лицо, удивительное лицо…»[xxvi]
У дуэта есть определенный женский архетип: аскетичная, чистая, молодая, с небольшой грудью, тугими бедрами, светловолосая девушка, объединяющая в себе живого человека и образ родины. Следующий пассаж из сценария Кто-то там, внутри, ставший фильмом под названием Лимита, 1994 года режиссера Дениса Евстигнеева.
«Отвернувшись от него, она стала есть конфету. Иван встал одной ногой на лавку, пригнувшись, откинул ей рыжие волосы, чтобы получше рассмотреть лицо. Она отвернулась. Он снова отвел волосы. Она отворачивалась, но не отходила. Потом сама повернулась к нему, разглядывая его из-под спутанных волос. Вдруг прижалась к нему, обнимая одной рукой за шею, другой под пиджак, за спину.
Иван обнимая и целуя ее, тихо задрал ей майку до самого горла. Перестав целовать, он стал осматривать ее грудь, коснулся губами тела. Поднял ей мини-юбку, оглядывая ее со всех сторон, как вещь или предмет. Она молча следила за ним, за тем, что он осматривает и трогает…» [xxvii]
И опять образ родины, красивой, стройной, молодой и незащищенной, неустроенной. Она что-то ищет или кого-то ждет, и подвергается насилию. Она уже сама привыкла к нему, к насилию и ждет того, той важной фигуры насилия и ожидает боли, готовая подчиниться маскулинной фигуре вольного казака. Она сама вместо любви и покоя способна только приносить боль и страдания. Насилие — вот ее вечная легитимность и иной не будет никогда! Это промежуточный женский тип между молодой, чистой девушкой и старухой, олицетворяющей смерть. В этом промежуточном типе аккумулированы положительные и отрицательные, но пока не смертельные черты. Эта девушка-женщина, уже вкусила плотских плодов, например, жена инженера Гусева, которую, несмотря, на ее моральное и телесное падение, все еще желает муж. Желает обладать, насиловать и быть обладаемым ею, чтобы она приносила ему боль.
Кстати, очень схожими мета-, транс-визуальными и транс-смысловыми свойствами обладает Ганна из Гонгофера, чья красота, чьи глаза могут «красть» чужие жизни, здоровье, чужие глаза, как это случилось с Колькой Смагиным.
Анна, жена бизнесмена и бандита Иванова, принадлежит к среднему типу. Она и наездница, и охотник, и бизнесмен. Женщина с характером и красива. При этом с рыбаком Александром Анна смягчается, снимается маска "жена крутого", а под ней оказывается нежная, слабая, ищущая любви женщина, в глубине она все та же девушка с маленькой грудью и русыми/рыжими волосами. И, наконец, третий архетип отрицательный: это старая женщина, старуха, правда, без косы, но, несомненно, несущая с собой холод смерти, страх конечности жизни. Вот интересный кусок из сценария Дюба-Дюба:
«Он ехал в автобусе, глядел хмуро в заднее стекло, на площадке почти никого не было, лишь у окна, прижавшись к стеклу, стояла девочка лет девяти—десяти. Она стояла спиной к нему, старенькое потертое пальто с вылинявшим искусственным воротничком, длинноухая рыжая шапка из свалявшейся в комья шерсти. Почему-то снова и снова возвращался он к этой фигурке. Тряпичные сапоги, куцая косичка. Он придвинулся ближе, но девочка, как бы чувствуя его, отворачивалась, не давая заглянуть в лицо. Вдруг она повернулась резко, и Андрей не успел отвести взгляд.
На него смотрела старуха. Сморщенное бледное лицо, маленький нос, обострившиеся углы черепа.
Он не выдержал, отвернулся, подхватив сумку, сбежал на остановке. Автобус тронулся. Андрей посмотрел ему вслед. Старуха чуть улыбнулась ему через окно.»[xxviii]
Образ молодой и желанной с помощью визуальной метаморфозы превращается в образ смерти. Молодой герой, сценарист Андрей смерть свою узнал? А в спальных районах Чертаново, Ясенево и т.д. обитают странные старички, он и она, куда приходят дружки пропащего Кольки Смагина из Гонгофера. И старушка эта очень похожа на старушку в трамвае из фильма Дюба-Дюба, которая вовсе и не женщина, а смерть в женском обличие.
Таким образом, можно выделить три архетипа женских образов у сценарного тандема Луцик&Саморядов. Молодая девушка, потом девушка-женщина и наконец, женщина-старуха. Возрастные изменения совпадают-накладываются на ролевые и смысловые изменения в функциях трех женских типов. Первые тип связан с любовью, с молодость, надеждой и, конечно, с родиной, которую необходимо защищать, оберегать, подчинять. Второй тип амбивалентный, в нем, сколько любви, столько и боли. Этот тип более агрессивен и несет помимо радости, в смысле удовольствия, еще и элементы если не разрушения, то изменения мужчины-героя. И третий тип, непосредственно связан с образом смерти, который чаще всего визуально передает с помощью старости. Все три типа, так или иначе, связаны с образом страны у сценаристов, страны как родины, которая на разных временных этапах, в разных исторических обстоятельствах, в разных географических точках может поочередной быть юной девой, женщиной-вамп и морщинистой старухой. Девушкой дарующей любовь и покой, женщиной дающей плотское наслаждение и старухой приносящей смерть.
Национализм как порок и как привилегия
Сценаристы аккумулируют в своем творчество многие запросы общества, пытаются осмыслить многие проблемы и реперные точки. Так, например, обстоит дело с национальными отношениями внутри «империи советов». Бытовой национализм, поддерживаемый и присутствующий латентно в политики партии и правительства СССР, к концу 80 — началу 90-х годов больше не прячется в подвалах и на кухнях, не фиксируется между строк на страницах деревенской советской прозы, националистически настроенных писателей Распутина, Астафьева, Белова и пр., а просто выплескивается газетной цунами в печати и на телевидении. Решенный в агитках и в книжных опусах бывших генсеков национальный вопрос, оказался краеугольным камнем, одним из многих, о который разбились многие надежды либералов и демократов в период перестройки. Все национальные проблемы, весь сор и споры о границах, качествах одних и «не качествах» других этносов стал достоянием не только анекдотов, но и источниками и поводами для написания книг, статей, сценариев, съемок фильмов и пр. Луцик&Саморядов не являются исключением, по большому счету можно сказать, что вместе с ослаблением официальной пропаганды и гласностью сценаристы открыто выступают националистически настроенными гражданами. Если почитать их сценарии с карандашом и подчеркивать каждый раз по ходу чтения ту или иную национальность, о которой упоминали сценаристы, то очень быстро многие страницы окажутся в помарках.
Реформы Горбачева поспособствовали не только стремлению к демократии, желанию узнать и переработать прошлое, но и, как ящик Пандоры вскрыли в человеке советском многие негативные формы, например, нетерпимость и критику чужих взглядов, ненависть к людям из-за из этнической или конфессиональной принадлежности. Если раньше ненависть, нелюбовь, нетерпимость нельзя было использовать, как официальную риторику, то теперь было дозволено все. В результате читаем в сценарии День саранчи такой пассаж:
«Среди ящиков сидел совершенно голый, совершенно заросший волосами экспедитор-армянин и что-то жевал.»[xxix]
Во-первых, это странно. Почему именно армянин, не какой-либо иной «нацмен» (используя царско-советскую терминологию), а армянин и москвич Сергей Гусев, уставший, голодный, в полуобморочном состоянии успел увидеть именно армянина, а не просто кавказца, например. А, во-вторых, вырванная из тела сценария фраза в целом звучит «безобидно» и «безопасно», но на самом деле, упоминание любой не славянской, не «казаческой» принадлежности всегда в их сценариях имеет негативные коннотации.
Или вот еще в Дюба-Дюба:
«…Понимаете, одни цыгане или армяне, надоело уже, поговорить не с кем.»[xxx]
Ребята явно озабочены вопросом национальности. Очень часто они вставляют ремарки о национальности того или иного персонажа, даже эпизодического, мгновенного.
«Водитель непонятной национальности, не глядя на Сергея, высморкался через дверцу.»[xxxi]
«…ты негра себе поищи, они и бокс любят, и по морде сможешь лупить!» [xxxii]
Россыпи национальностей, которые упоминаются в сценариях Луцика&Саморядова, фиксируют странное время, время распада страны, а представители различных народов и национальностей, которые вчера еще служили идеологическим маркером дружбы, теперь напоминают неудавшийся эксперимент не только в области национальной политики СССР, но ущербности самого проекта советской империи. Это брошенные на окраинных землях разномастные представители вместо напоминания о былом величии, теперь раскрывали слабость, бессмысленность и безрассудность “страны советов”, дикую фантазию вождей, которые когда-то красными карандашами проводили/придумывали на картах границы для вассальных республик и народов.
Мне кажется, что Саморядов и Луцик зафиксировали растерянность представителей так называемой титульной нации или государствообразующего этноса, до сих пор жившего в стабильной и продолжительной иллюзии, что в империи все хорошо и так будет длиться бесконечно долго. И в один миг все рухнуло, смешались север и юг, запад и восток и, находясь в абсолютной географической, политической, мировоззренческой прострации эти люди, граждане извлекают из собственных глубин таких чудовищ, на которое не способно и безумство разума.
Более того, этот самый представитель "доминирующего" этноса вдруг узнает, что метрополия это одно, а провинция живет своей жизнью, тайной, страшной, не той, про которую рассказывают с экранов телевизоров в вечерних выпусках новостей. Более того, если верить тому же Андрею Волосу вчерашние «титульники» сами оказываются в роли «бичей», среднеазиатских рабов, которыми управляют вчерашние «недоучившиеся» туземцы. У Луцика с Саморядовым в сценарии присутствуют двое «колонизаторов», вчерашние «хозяева» страны, а сегодня за бутылку водки готовые взяться за любую работу. Именно к ним обращается за помощью инженер Гусев со своим желанием наказать мафиозного председателя обкома или горкома, какая теперь разница!
В Северной Америке националисты «задорновского» типа растеряны, там они сами оказываются в роли «второсортных». Эти потомки Пушкина и Достоевского быстро растрачивают «задорновский» пыл и спесь великошовинистического толка. Там некого и нечему учить. Там можно учиться, стремиться, желать и работать. Но они, выросшие на героях Гоголя и Достоевского, Толстого и Чехова, привыкших созерцать не созерцаемое, обнимать не обнимаемое, оказываются не у дел, такой патриотизм Михаил Эпштейн называет «чур-патриотизмом», одним из видов репрессивной формы патриотизма «враждебного всему новому и иностранному, близкий ксенофобии». [xxxiii] Интересно следующее, почему русских авантюристов в сценарии Северная Одиссея Луцика&Саморядова, а также героев Брата Балабанова встречает именно темная, криминальная, бандитская Америка. Не Америка Набокова, Сикорского, Сорокина Питирима, Михаила Чехова, а именно такая, маргинальная, как их родная империя? Именно тут и таится ответ на этот вопрос, их встречает не Америка или Мексика с Канадой. Здесь мы видим как привилегия пренебрежительного, «колониального» отношения к иным этносам превращается в порок. Они получают то, что сами из себя представляют. Без понятий о частной собственности, о законе, а только с домостроевскими думами о справедливости. Поэтому и Америка у них не отличается от криминальной родины. Булгаковский профессор Преображенский бессмертно заметил, что разруха начинается в головах, а не в клозетах. Дело не в пространстве, не в географии, а самом человеке, как он такие географические и антропологические ландшафты вокруг себя обустраивает? [xxxiv]
Summary
Герои Петра Луцика и Алексея Саморядова обращаются в «бичей» или как скромный врач Митя из Дикого поля растворяются в степном воздухе анархии, или же, как скромные московские рогоносцы-инженеры обращаются в азиатских робин-гудов, краснобаев и басмачей, вскрывая в себе всю мерзость, прятавшуюся под лузерными лозунгами о братстве народов. Такие герои возвращаются из провинции в Метрополию, чтобы свести счеты с империей, с ее духом, с ее идеологией, продуцирующей полвека пустые идеологемы и национальные идеи. Провинция, в интерпретации Луцика&Саморядова – Окраина отправляет ходоков в столицу за правдой. Правды - нет, столицу – сжечь! Тем же героям, которые по тем или иным причинам суждено остаться в центре, в Москве, например, Андрею из Лимиты или Сергею (мужу Анны) из сценария Анна, или Кольке Смагину из Гонгофера, то столица-блудница их приручала/подминала/лишала зрения и жизни.
Центробежные волны, разливающиеся от самих стен Кремля, смывали все на своем пути, достигая окраин и степных заброшенных миров. Герои и персонажи фильма Дети чугунных богов, Окраины, Дюба-Дюба, Мутант, проклиная столицу империи, как вавилонскую блудницу, вынуждены всего лишь, сосредоточится на обороне своих мелких мирков, увязших в хаосе распада империи. В этих провинциальных очагах бывшей империи смешиваются понятия и состояния, бывшие хозяева становятся рабами, воры хозяевами жизни, кочевники оседлыми гражданами.
Среди прочих тем в творчестве тандема Луцик&Саморядов проявляется еще одна – это мотив женщины, метаморфозы женских образов и стабилизация их в трех основных архетипах: женщина-девушка, женщина-стерва, женщина-смерть. Для сценаристов в разные периоды или одновременно родина выступает в образе женщины, способной даровать любовь и продолжение жизни, как молодые героини (девушка без имени в фильме Канун; девушка из беседки в сценарии Кто-то там, внутри; Таня Воробьёва из фильма и сценария Дюба-Дюба; незнакомка, пленница местного партийного бая из сценария День саранчи и фильма Савой; невеста доктора Мити из сценария и фильма Дикое поле). Второй образ, архетип - промежуточный женский тип, девушка-женщина, столь же прекрасная, как девушка первого архетипа, но обладающая самостоятельными и независимыми чертами (Анна, жена бизнесмена и вора из сценария Анна; неверная жена инженера Гусева из сценария День саранчи и фильма Савой), Ганна из фильма и сценария Гонгофер. И третий архетип – женщина-смерть (старушка-девочка в трамвае из сценария и фильма Дюба-Дюба; чертановская старуха из того же Гонгофера). Но во всех этих треп типах просматриваются сложные отношения сценаристов с их родиной или родной страной/стороной, а точнее их взаимоотношения с этим понятием.
За всеми обозначенными темами: идентификация героя, национал- патриотические нотки, три архетипа женщины, определение границ комфортной совместно для себя и родины ойкумены и пр., проявляется главная тема творчества Луцика&Саморядова - это тема самоидентификации авторов в минуты роковые.
«А ведь я могу им службу сослужить. Мы с тобой можем придумать что угодно, какой угодно сценарий. Сделаем фильм про честного молодого коммуниста?»[xxxv]
Героев, а точнее, сверх-героя сценарного дуэта мы застаем в сложной жизненной фазе, в период метаморфоз и перерождений, которые, как мы отмечали выше, носит характер обреченности и вынужденных действия. Эти вынужденные перерождения связаны, прежде всего, с метаморфозами самого организма родины, империя расползалась или съеживалась, как шагреневая кожа.
Однако поиски границ, а тем более вопросы самоопределения во времени и пространстве, накануне войны, в предчувствие ее холода и запаха, дело практически безнадежное.
«Но теперь другое время. Неизвестно, что зреет. Может быть, пробивается новая мысль, но ненависть и злоба в народе большие.»[xxxvi]
Петр Луцик и Алексей Саморядов оказались живой ртутью в социальных градусниках, показывающих приближение гражданской войны. В одном они оказались не правы, война умело отодвинута на границы Метрополии, в пространства Дикого поля. И нынешние полевые командиры это и есть прототипы героев Луцика&Саморядова, словно сошедшие со страниц их сценариев, воюющие далеко от окружной кольцевой вавилонской блудницы — златоглавой столицы.
Идея или концепция Окраины, тесно связана с идеей "небесного рая" когда-то утраченного. Однако, и в религиозном, и в философском, и в политико-идеологическом дискурсе эта идея всегда была сопряжена с территориями на земле, т.е. с конкретно материальным, никак не связанным со свободным духом и небесным Иерусалимом. Теологический Иерусалим всегда представлялся сусально-золотым Константинополем, с прибитым к воротами мечом или щитом князя Ольгерда, т.е. однажды присвоенным сначала военным путем, а потом и духовно или политико-идеологическими или теологически-демагогическими способами. Таким образом, “небесный рай” принимал очертания Окраины, брошенной земли, утраченного рая. С тех самых пор, с ранних "временных лет" муссируется и поддерживается стремление к возвращению (захвату) утраченных земель, которыми на самом деле никогда столь долго, чтобы они стали внутренне своими, не обладали претенденты. Однако сама концепция прижилась и поддерживается и полемически, и идеологически, и физически военными средствами. Но, несмотря на все старания, Окраина остаётся жидкой, неустойчивой концепцией, скрывающейся в туманах истории, и воплощающаяся лишь на уровне фантазий, грез и психологической ущербности. Несомненно, это Утопия, но именно она позволяет существовать и "осуществляться" творческому человеку. Такая утопия обрастаю тысячами и миллионами жертв обращается в кровавую антиутопию или дистопию, которую тандем сценаристов фиксирует в сценариях Мутант и Дети чугунных богов и даже в Кто-то там наверху (Лимита). Можно сказать, что хаос 90-х сформировал ожидания от Будущего у Петра Луцика и Алексея Саморядова, да и у многих творческих людей, прошедших эту эпоху и между хаосом и свободой выбрали первое. Именно, в этом хаосе разрушения, падения, разъединения и были посеяны семена войны, войны будущей. Они лишь скрыты под удобренной и унавоженной почвой. Тот экзистенциальный, онтологический, телеологический выбор в пользу Окраины, в пользу "земного рая" очертил контуры будущего, Будущего с войной.
Yarr Zabratski
[i] Занин А. Страна, которую они придумали за нас: вселенная Луцика и Саморядова — между печалью и небытием // https://kinoart.ru/texts/strana-kotoruyu-oni-pridumali-za-nas-vselennaya...
[ii] Саморядов А., Луцик П. Праздник саранчи // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.9
[iii] Саморядов А., Луцик П. Праздник саранчи // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.33
[iv] Забратски Я. Трудовой Рэмбо Петра Луцика и Алексея Саморядова // http://cinebus.org/trudovoy-rembo-petra-lucika-i-alekseya-samoryadova
[v] Волос А. Хуррамабад: Роман. — М.: Изд. Независимая Газета, 2000. — 432 с.
[vi] Боулз Пол. Далекий случай // Нежная добыча. — М.: Издательский дом: Митин Журнал, KOLONNA Publications, 2005. — С.13-19 // http://rulibs.com/ru_zar/prose_contemporary/boulz/5/j2.html
[vii] Волос А. Хуррамабад: Роман. — М.: Изд. Независимая Газета, 2000. — 134 с
[viii] Саморядов А., Луцик П. Праздник саранчи // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.39
[ix] Владимир Стеклов, актер, исполнивший роль московского инженера Сергея Гусева в фильме Савой. Примечательно, если верить Википедии Владимир Стеклов родился в Казахстане, а по материнской линии происходит из поволжских немцев.
[x] Бугаева Любовь. Эмансипация и груз прошлого: крепостные и рабы на российском киноэкране. — НЛО. — №5. — 2016. — С.454
[xi] Саморядов А., Луцик П. Праздник саранчи // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.51
[xii] Саморядов А., Луцик П. Дюба-Дюба // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.179
[xiii] Саморядов А., Луцик П. Кто-то там, внутри… // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.232
[xiv] Саморядов А., Луцик П. Северная Одиссея // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.375
[xv] Саморядов А., Луцик П. Анна // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.483
[xvi] Саморядов А., Луцик П. Анна // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.456
[xvii] Саморядов А., Луцик П. Анна // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.456
[xviii] Саморядов А., Луцик П. Дюба-Дюба // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.104
[xix] Саморядов А., Луцик П. Анна // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.475
[xx] Саморядов А., Луцик П. Анна // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.474
[xxi] Саморядов А., Луцик П. Дикое поле // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.521
[xxii] Саморядов А., Луцик П. Дикое поле // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.525
[xxiii] Саморядов А., Луцик П. Праздник саранчи // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.25
[xxiv] Саморядов А., Луцик П. Праздник саранчи // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.16
[xxv] Саморядов А., Луцик П. Праздник саранчи // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.135
[xxvi] Саморядов А., Луцик П. Дюба-Дюба // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.178
[xxvii] Саморядов А., Луцик П. Кто-то там, внутри… // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.227
[xxviii] Саморядов А., Луцик П. Дюба-Дюба // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.101
[xxix] Саморядов А., Луцик П. Праздник саранчи // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.32
[xxx] Саморядов А., Луцик П. Дюба-Дюба // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.108
[xxxi] Саморядов А., Луцик П. Праздник саранчи// Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.35
[xxxii] Саморядов А., Луцик П. Анна // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.478
[xxxiii] Эпштейн М. От совка к бобку. Политика на грани гротеска. — К.: Дух і Литера, 2016. — С.39
[xxxiv] Саморядов А., Луцик П. Северная Одиссея // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.385
[xxxv] Саморядов А., Луцик П. Дюба-Дюба // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.103
[xxxvi] Саморядов А., Луцик П. Дюба-Дюба // Праздник саранчи — М.: Квадрат, 1996. — С.108