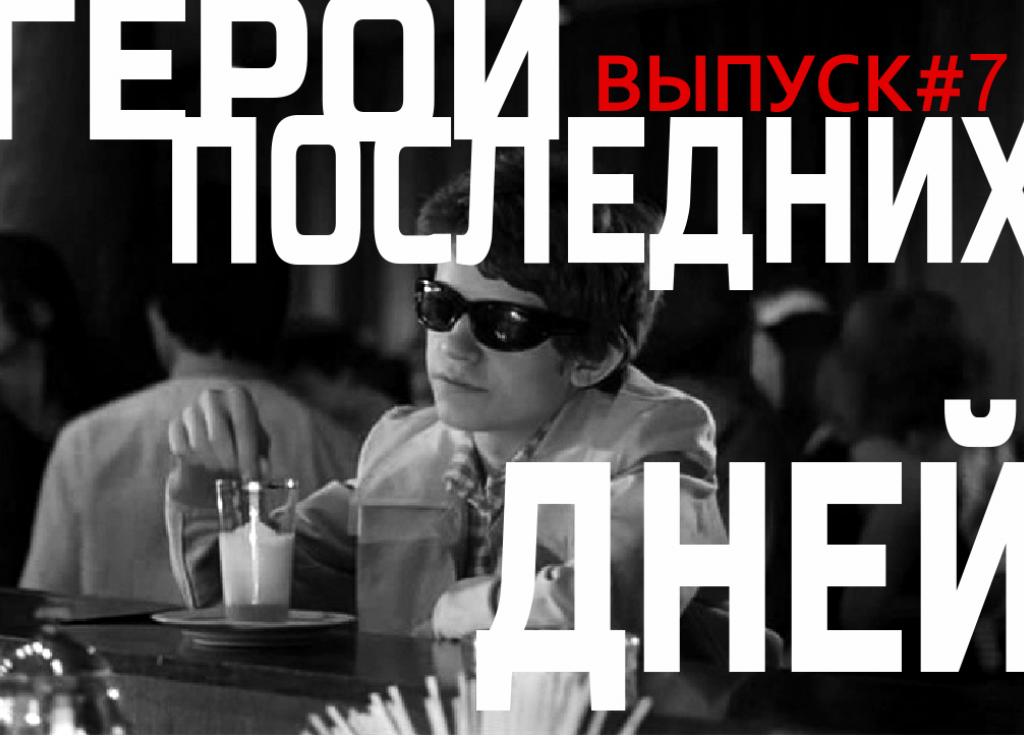19.01.21 11:01

Итак, к сегодняшнему дню и часу не осталось ни одного стабильного центра в жизни человека, который может служить маяком и опорой в путешествие из точки А в точку… Люди испытывают безжалостное давление со всех сторон, разрываются в разные стороны и разносятся по частицам в пространстве пустоты и суеты. Им некуда идти. Не осталось ни одного белого пятна на географической карте мира, ни одной точки, куда не ступала торопливая пята человека. Отказываясь от своего «героического» прошлого ради «полного» настоящего, герои кино, литературы становятся простыми персонажами. Утрачивая связи с другими, теряясь во враждебных ландшафтах внешней жизни, у человека не остается никакого выбора, кроме как обратить все свои взоры вглубь, в поисках «внутреннего человека», способного принять жизнь, как безусловное и полноценное бытие.
Блудный сын бездомный
В фильме Маттео Гарроне Пиноккио, деревянный человечек - блудный сын отправляется в путешествие по миру, чтобы обрести себя внутреннего или себя истинного, чтобы прожить окружающую реальность/время, как полноценное бытие. Пиноккио оставляет своего земного отца, чтобы стать Человеком. Он отправляется в путешествие как блудный сын, а возвращается как Сын, который приводит к Отцу еще и своего отца земного. Пиноккио научается принимать действительность как единственно возможную, отсюда и готовность принять ее полностью. Отсюда в конце фильма деревянный человечек, вместе со своим отцом плотником, поселяется в разрушающемся доме, поскольку ничего нет вечного под солнцем, все преходящее, но от этого не менее ценно и необходимо мужество и мудрость, чтобы принять это и понять, что иной действительности или иного дома, или иной реальности не будет никогда. Однако, дом без стен и окон, со сползающей со стен штукатуркой, есть метафора внешнего бытия.
Есть что-то общее и что-то отличительное между фильмом итальянца и венграми Ласло Мартон и Ласло Краснахоркаи. Например у Мартона в рассказе Зашла попросту, ненадолго…, в котором одна женщина отправляется в другой город, чтобы повидаться с любовницей своего мужа-машиниста. Только этот машинист не простой, факт его профессиональной деятельности здесь не главный, он не имеет большого значения. Главное тут другое: дорога, непостоянство, побег, путешествие – вот глаголы, жгущие сознание современного человека.
«Только этого ей не хватало — обсуждать с провинциальной уборщицей похождения развратника машиниста!» [i]
Распереживалась женщина, приехавшая к другой женщине, которых связывает мужчина. Между ними натянутая нервная линия судьбы мужчины, машиниста. Оба его любят, но судьба его свершается где-то между двумя центрами его жизни, тянет его В-Никуда.
А машинист — это и есть блудный сын, Агасфер, Пиноккио, пыльный коммивояжер, отправившийся в путешествие, без права возвращения домой. У Краснахоркаи в романе Сатанинское танго загадочный Иримиаш, то ли блудный сын, то ли пророк, то ли исполнитель божьего наказания возвращается в… нет, не в отчий дом, не в родную деревню, то место, куда он прибывает смело можно назвать В-Никуда. И пусть в этом заброшенном хуторе знают Иримиаша и дрожать от одной мысли о его возвращения, все одно это черное пятно на карте действительности и бытия. И это второй момент, который объединяет фильм Маттео Гарроне и произведения венгров.
«По дороге ей вспоминается, что у этого городка был очень красивый центр. Маленький, но красивый, сохранившийся нетронутым. Она видела его на фотографиях, но и собственные впечатления всплыли в памяти: о школьной экскурсии сорок лет назад. Тогда, конечно, вид города интересовал ее меньше всего. Ее внимание было целиком приковано к Габору, каждой клеточкой существа она тянулась к нему. Во время той экскурсии они впервые поцеловались. И такими воспоминаниями она должна делиться с этой Ицей? … Да, в следующий раз она приедет дня на три, остановится в «Солнечном луче». Тогда ей достанет времени, чтобы восполнить упущенное в той экскурсии: с интересом осмотреть городок, словно бы не имеющий к ней никакого отношения.» [ii]
Такой городок, такая временная точка на коже путешествий оказывается величайшей остановкой всей жизни, это мгновение, которое сформировало, направило в нужном направлении, определило каждую привычку, каждую морщину на лице, каждый рассвет и закат жизни на самом деле оказывается забытым, запущенным, заброшенным в захолустьях памяти, В-Никуда. И оказывается зря, такие точки и формируют нашу жизнь, те мгновения, которые мы называем счастливыми. Это точки – ориентиры, точки-зарубки в сознании, которые помогают проснуться и вернуться.
Нечто подобное вероятно испытывал один из персонажей романа Сатанинское танго, житель заброшенного хутора:
«Футаки с грустью посмотрел на зловеще нависшее небо, на сгоревшие остатки лета, опустошенного набегом саранчи, и внезапно увидел, как сквозь ветки акации проходят друг за другом весна, лето, осень и зима, и ему показалось, что время — не более чем легкомысленный эпизод в необъятных просторах вечности, дьявольская уловка с целью создать из хаоса видимость порядка, в которой всякая случайность принимает облик неизбежности… И увидел себя самого, распятого между колыбелью и могилой, мучающегося в бессильных попытках освободиться, чтобы в конце концов — нагим, без наград и знаков различия — сухой, щелкающий как кнут приговор отдал его под хохот трудолюбивых живодеров в руки мойщиков трупов, где ему без жалости покажут меру человеческих трудов, и где у него не будет ни малейшей возможности вернуться обратно, ибо он уже понял, что ввязался в проигранную заранее игру с шулерами, и теперь у него не осталось даже последней защиты — надежды когда-нибудь обрести дом.»[iii]
У Эрнста Юнгера в Африканских играх иные обозначения блудного сына:
«…я хотел добраться туда как безбилетный пассажир, как юнга или как странствующий подмастерье.»[iv]
Но сути они не меняют, или не предают главного желания 20 века вырваться за поля обыденности, в иной мир времени и пространства, где эвклидовы законы бессильны и где будущее присутствует. Особый интерес в бесконечном списке побегов от реальности вызывает факт места, куда стремятся "юнги" постмира, или ориентир, которого они придерживаются. Почти всегда они совершают побег в третьи страны, туда, где сама реальность своими жесткими углами не дает забыться в фантазмах человеку.
Извергнутый из дома, из лона матери после рождения человек, гонимый временем и принижаемый пространствами, ищет Дом. Путешествует от одного пятна к другому и смотрит, как в окне вагона поезда проносятся рассветы и закаты, пока не попадет В-Никуда. А это место в самом человеке. Дом больше никогда не будет отчим домом, или утробой матери, нет, отныне он всегда и только внутри человека. «А я, представь себе, проснулся от звона колокола…»[v] Футаки слышит колокольный звон, хотя знает, что колокольня пуста изнутри, в ней нет колокола. И некому звонить. Хемингуэевская традиция или знак о потерянном времени. Сначала колокольный звон при пустой колокольне, а теперь явление времен без времени, извещающие о тщетности и бессмысленности бытия. А это то, что разделяет и дифференцирует венгерский авторов и фильм Гарроне или сказку Карло Колоди. Основанная на библейском и патриархальном понимании действительности и бытия история Пиноккио, рассказывает о мужестве и восхождении/возвращении человека, правда, в мире, в котором еще существует отчий дом. Через взросление и примирение с Отцом человек восполняет свое бытие, наполняет его счастьем и смыслом. Колокол-же постмодерна возвещает об обратном, о тщетности и пустоте бытия и призрачности действительности.
Не-герои пространства В-Никуда
«…они напирали сзади, и тогда приходилось с помощью чемодана менять направление, но они — оп-ля! — и преграждали тебе путь, потому как ухитрялись в мгновение ока очутиться то позади, то впереди тебя, и весь аэропорт походил вовсе не на пункт прибытия, а на место, куда ты попал по ошибке и обнаружил это слишком поздно, уже когда ты прибыл и влился в чудо-ошибке и обнаружил это слишком поздно…» [vi]
Такие чувства испытывал иной герой иного рассказа На вершине Акрополя все того же Ласло Краснахоркаи. Мне почему-то этот персонаж напоминает французского профессора-лингвиста из рассказа Далекий случай американца Пола Боулза, и видимо тем, что за все время сюжета не вымолвил ни слова. А молчание это важный признак раздвоения личности, утраты им связи с действительностью и разочарованием в собственном бытие, о чем мы знаем еще со времен Ингмара Бергмана. Все трое жили и творили почти в один период, перехода от модерна к пост… другому миру, когда незаметно с запозданием заканчивался 19 век.
Другими словами, ощущения, которые испытал герой Краснахоркаи в аэропорту Афин, похожи на то, как жизнь одновременно выталкивает человека и притягивает к себе. Но нигде человек не получает хоть мгновение покоя, ни одно состояние не примиряет его с жизнью, и он молча продолжает безрезультатные, унизительные поиски.
«…короче говоря, на Акрополе не было ничего, кроме Акрополя, но к тому времени страдания его достигли предела…»[vii]
А там ничего и не предполагалось увидеть автором или его читателем, вот только незадачливый и молчаливый профессор все еще не догадывался, что он вернулся не в колыбель европейского сознания и ойкумены, не к истокам материнской утробы, не к границам отчего дома, он вернулся В-Никуда.
«…он наконец-то уразумел: то, ради чего он пришел сюда, останется для него невидимым, о-о, с горечью подумал он, ему не только никогда не узнать, каковы масштабы Акрополя, но и самого Акрополя не увидеть, хотя находится он здесь, на Акрополе…»[viii]
Чтобы понять жизнь необходимо прожить ее, принять ее целиком и полностью, достигнуть смерти, а после этого смысл достижения жизни и не важен, и очевиден.
В романе Сатанинское танго Ласло Краснахоркаи посредством событий, ситуаций, слов, встреч, переживаний в тексте автор пытается уйти из мира, каким мы его знаем, спрятаться от него и найти лазейку В-Никуда. Здесь, на хуторе ничего не происходит, все живут в ожидании возвращения Иримиаша.
В самом начале романа временные или эпохальные рамки читателю неизвестны, но судя по первым ремаркам, словам можно предположить, что это эпоха социалистической Венгрии. Однако, при этом проблемы человеческого существования, его тщетных попыток проявить смысл бытия оказывается универсальным и вечным, независящим от политического строя и имени генсека или премьер- министра.
Все герои забытые временем на хуторе ждут перемен, они верят в жизнь после жизни, они думают, что хутор – это их временное пристанище, ковчег на пару недель или лет, а потом, после того, как он причалит к земле… Герои поселка – коллективный Пиноккио, увлеченные экстенсивными поисками материального места, точки на карте, у которой есть точные координаты.
Им противостоит доктор-наблюдатель, поскольку считает, что «…тяга к переменам есть ни что иное, как скрытый симптом угасания памяти.»[ix] Порой, находясь в нужном месте и в нужное время человек отправляется в долгое путешествие, чтобы однажды вернуться туда, откуда в начале жизни сбежал. С огромным архивом событий, но с ограниченным лимитом памяти. Перемены – это терабайты информации, байты, биты, битые биты информации, а память – это покой и тишина. «Легко ускользающее “сейчас”» вытесняется из памяти переменами и внешними новыми впечатлениями, а память же ждет своего часа, не мгновения, а именно, часа длительного одиночества и погружения в воспоминания. Одинокого погружения в фактурные глубины воспоминаний.
«Безмолвные образы вновь и вновь проходили у него перед глазами во все более строгой последовательности, словно все то, что человек считает важным сберечь, образовало единый независимый и неизменный порядок; и до тех пор, пока память старается недолговечное, легко ускользающее «сейчас» наполнить уверенностью и связать с жизнью, соединить живые нити правил этого порядка в свободной череде событий, человек вынужден перебрасывать мост между жизнью и воспоминаниями не с чувством свободы, но, скорее, со стесненным удовлетворением владельца; поэтому теперь, вспомнив все, что произошло, он почувствовал ужас, хотя очень скоро он начнет цепляться за свои воспоминания, и еще не раз в «последние оставшиеся ему годы» он мысленно вернется к этим образам, когда в самые мрачные ночные часы, высовываясь из обращенного на север окна своего дома, будет в одиночестве дожидаться рассвета.» [x]
Ключевая фраза, по моему мнению, вот эта: «наполнить уверенностью и связать с жизнью». Не хватает уверенности в том, что сеттинг нашей жизни осмыслен и наполнен осознанностью, что не зря, что со смыслом, что кому-то надо, что из событий, ошибок и проб, можно сделать выводы и быть образчиком для идущих следом. Что есть, что передать другим, есть, что сказать сыну или дочери, есть, что сказать себе перед ликом одиночества и приближающегося уже бесконечного бытия. И еще много этих всяких разных потому что.
И дальше:
«В напряженной тишине было слышно только упорное гудение слепней, да из-за окна слышался безостановочный шум дождя, и эти два звука объединяло все чаще слышавшееся потрескивание гнущихся под ветром акаций, в ножках столов и несущей конструкции стойки шла странная ночная работа, неровно пульсирующие сигналы, которой отмеривали отрезки времени, безжалостно установив пределы территории, куда не могло поместиться ни одно слово, ни одна фраза, ни одно движение.»[xi]
Персонажи Тарра, Краснахоркаи или Мартона пребывают вне времени, их главная проблема, вакуум времени, никакие другие события, даже, воскресение из мертвых, не беспокоит и не влияет пагубно на них, как отсутствие времени. Эта характерная черта впервые проявляется у Чехова, герои которого мучимы и терзаемы уходящим временем, тогда оно еще было, но уходило, просачивалось жирным вишневым соком через края чайных стаканов в белоснежные хлопковые скатерти, во время ритуала чаепития. Это было начало конца большой эпохи, одним из первых певцов которой был Габриэле Д`Аннунцио. Это было начало большой по времени Coda, хвост галилеевой кометы, край коперниковского хвоста. Потом были Кафка, Джойс, Пруст, последний прямо в название вынес беспокоящую проблему. Этой болезнью болен был и Набоков, чью Лолиту и чьего Гумберта, так точнее, можно назвать ловцом времени. А беззащитного Лужина можно смело связать с такими персонажами, о которых мы говорили выше как профессор лингвист Пола Боулза и профессор Краснахоркаи, прилетевший в Афины, чтобы найти свой переход В-Никуда.
Героям модных в 40-50- е гг. писателей Хемингуэя, Дос Пассоса, несмотря на всю их "потерянность" исключительно посчастливилось...
«Вы сказали мне, что дела здесь идут плохо, но я тот час же понял: существует намного более серьезная проблема. Друзья мои, еще до моего прихода вы отдавали себе ясный отчет и лишь не осмеливались сказать об этом друг другу, что над поселком с давнего времени — гораздо дольше, чем полтора года, поверьте мне — довлеет злосчастный рок, и все вы чувствуете, как медленно исполняется неотвратимый приговор… И вы, друзья мои, глубоко увязли в этом погибельном месте, далеко от всего, что есть Жизнь… Ваши планы один за другим оканчиваются неудачей, ваши мечты слепо разбиваются, вы верите в какое-то чудо, которое никогда не произойдет, надеетесь на какого-то спасителя, который сможет вывести вас отсюда… Однако вы уже поняли: не во что верить, не на что надеяться, поскольку минувшие годы тяжко давят на вас, дамы и господа, так что, кажется, возможности безвозвратно утрачены, вами овладела беспомощность…»[xii]
Занятые напрямую истиной выживания, проблема времени напрямую у них была связана с физическим существованием и с проблемами выживания, присущими огромным массам людским, связанными со страхом и опытом массовых уничтожений. Бунт масс или по Ортега-и-Гассету, восстание масс, произошло и закончилось появлением одиноких, бездомных монад-фриков. Но даже фрики со страниц Кизи, Селинджера и Керуака, кролики Апдайка еще герои, еще в глагольном измерении истинно «длящиеся», настоящего времени герои. Можно сказать, что их личное время еще не проявилось, точнее, не заявило о своей пропаже, растворившись в коллективном времени и опыте двух мировых войн и лагерей. Они были последними представителями классических исторических героев, чья генеалогия начиналась в Просвещении, а расцвет совпал с эпохой сумеречного Романтизма.
Время закончилось официально в 1968 году, когда край коперниковского хвоста, растворился в цифрах нового мироустройства. Только в восточной Европе, оцепленной коллективными мессианскими идеями всеобщего благоденствия на земле вкупе с железными танками советской империи этот процесс искусственно был заторможен, но не исключен из онтологического существования человека, он просто ушел на второй план и этот «рассинхрон» негативно сказался на душах, после того, как безвременные ритмы и вакуумы западной и восточной Европы слились в единый континуум. Теперь они уже не являются классическими героями, а больше персонажами, при всей гиперболизации субъективизма в них не просматривается черты исторического героя, живущего в конкретное время и месте. Они слишком заняты внутренними поисками и самоопределениями, и самоориентацией в пространстве, чтобы стать полноценными героями.
Попытаюсь объяснить в чем, для меня, заключается разница между героями и персонажами. Герой, ведет свою родословную из античной Греции, где они полулюди, полубоги принимали и делали вызовы самим богам, при этом были зависимы от Судьбы, от записей в скрижалях Рока. Именно эта особенность, свобода и обреченность, позволяло в дальнейшем вольготно чувствовать себя в рамках европейского романа, где, с одной стороны, они были порождением фантазии автора, а с другой, наделялись всей полнотой самостоятельности. Первым таким персонажем является сервантовский Дон Кихот, он еще не полноценный персонаж, больше герой с набором рыцарских представлений и смутным силуэтом прекрасной дамы, вдохновляющей его на борьбу в ветряными мельницами и песком, просыпающимся между пальцев. В учебниках по сценарному мастерству судьбу героев отличало наличие архисюжета с законченным финалом. В отличие от героев, персонажи – это маргиналы и аутсайдеры профанирующие героические качества своих предшественников. Персонаж максимально эгоистичен, гипериндивидуален и субъектен по отношению к внешнему миру, но эти качества не помогают, а сдерживают персонажа, он постоянно пребывает в некоем футляре, в самом себе. Т.е. он является не порождением авторской фантазии, а самим автором, максимально внутренне свободным, но не способным на поступки вне интимной, внутренней сфер обитания своей характера. Дон Кихот в данном случае шел обратным путем от интимного поступка к внешним сферам. И в тех же учебниках по написанию хорошего сценария для них отведена рамка/рампа антисюжета или минисюжета, где нет, и не может быть ничего героического и волевого, финал противоречивый и открытый, а время и место не поддаются никакому реальному определению. Ведь это только кажется, что профессор из рассказа На вершине Акрополя находится в рамках четкого сеттинга. Как бы не так…
Именно, этой, модной, болезнью больны все персонажи Кафки, Набокова, Краснахоркаи — гипертрофированное сосредоточивание на своем внутреннем мире, вне которого ничего не существует, как и положено в эпоху безвременья и безпространства. Только визуальные химеры или порождения безумного разума.
Отсюда вытекает следующий вывод: романы, фильмы, музыка сегодня начинаются там, где обычно все заканчивалось в классическую пору. Таково начало, например, в рассказе Ласло Краснахорка На вершине Акрополя. Рассказ начинается, если можно так выразиться в самом конце. Такое мы фиксируем в рассказе Пола Боулза Далекий случай. Мы ничего не знаем, что было в жизни у этих персонажей до того момента, пока их жизнь не стала оставлять следов на белых листах бумаги, следов, зафиксированных венгерским и американским писателями. Мы почти не знаем кто они, сколько им лет, откуда прилетели в Афины или в Африку, есть ли у них семья, друзья, кроме афинских, кстати, оставшихся за кадром или ад маргинем. Мы видим только уставшие фигуры не молодых людей, мужчин, с чемоданчиком, саквояжем личных вещей. Чемоданчик профессора, взбирающегося на Акрополь, единственное, что соединяет его и его жизнь до того момента, пока мы не явились свидетелями, благодаря Краснахоркаи, его последних часов. Что именно в чемоданчике мы никогда не узнаем, не узнаем имен и не увидим лиц его афинских друзей, к которым он прилетел, не узнаем его имени и цели визита в не Античную Грецию.
Антигерой профессор, его коллега французский лингвист Боулза, набоковский Лужин — это бедные копии героев: Осириса, Одиссея, Орфея, Моисея, Гильгамеша, Нергала.
«Он стоял неподвижно, закрыв глаза, запрокинув голову. Ему хотелось освободиться от стойкого, вновь и вновь прорывающегося желания хотя бы сейчас, под конец своей жизни, узнать, “для чего нужен был этот Футаки?”»[xiii]
Для чего нужен этот герой?
Во многих учебниках, курсах и семинарах по драматургии и сценарному мастерстве главным тезисом, константой проходит мысль, что главный или главные герои при внешней пассивности должны обладать внутренней силой, волей характера, которая позволяет изменить внешние ситуации и прийти в финале к осуществлению своего Желание, чтобы вдохновлять читателя/ зрителя. Однако, Лужин Набокова, господин К., Карл Росман Кафки, герои Гомбровича, да даже герои Чехова изначально говорят об обратном, пусть сюжетно для зрителя и остаётся лёгкий намек на счастливый конец. Таким образом, в современном искусстве определенно нет времени, нет пространства, и нет самих героев, а исключительно, персонажи, с наличием определенного и разнообразного сеттинга, который единственный обогащает их и нас зрителей, читателей, слушателей.
«”И что теперь? ” — спросил Петрина. ”В смысле? ” ”Что теперь будет? ”. ”Что будет? — сквозь сжатые зубы процедил Иримиаш. — Теперь наша жизнь вступает в эпоху наивысшего расцвета. Раньше тебе говорили, что ты должен делать, теперь говорить будешь ты. Но в точности то же самое. Слово в слово». Они закурили и мрачно выпустили дым”.»[xiv]
Цель и Время
«…первые в жизни он близок к цели, после чего все остальное стало неинтересно и неважно, жизни он близок к цели…»[xv]
Так думает жалкий видом профессор, умирая от жары на Акрополе, откуда рукой подать до голубого неба. Так думают зрители, подбираясь к финалу зрелища, так думаем мы, вступая в коду нашей жизни. Очень древние греки приучили нас к развязке, если есть начало, то, значит, есть и конец. Однако конец не наступает даже для тех, кто является последними титанами, фанатами классической жизненной драматургии. После нас даже потоп не случается, опровергая всякие скороговорки и крылатые выражения. Гибель Римской империи затянулась аж на три сотни лет, в которые уместились расцвет искусства, городского универсума, зрелость философии, увядание старых религий и культов и нашествие варваров, молодых львов-номадов или титанов-азиатов. Гибель нашего нового времени уже почти перегнала трехсотлетний римский финал, и, похоже, что варваров никто не наблюдает на лимесах и границах хрупкой ойкумены, она (гибель) похоже надолго, если не навсегда зависла, застряла в перманентном кризисе самоувядания. Варвар незаметно поселился внутри нас. Поэтому человеку в удел остается или передается постоянно возрождаемое желание, что-то противопоставить тлену и плесени, вечные предощущения возвращающихся весны и молодости.
Нынешняя дезориентация и во временах и в пространствах, кажется, подчинена одной упрямой логике: активировать в человеке новое и утраченное восприятие указанных категорий. Через восприятие боли и утраты, через отстранение, через признание ошибок, через разрывы нащупать новую скрытую актуальность и смыслы (целеполагания) своего существования. Деавтоматизация ведёт к прорыву к себе внутреннему.
В целеполагании нам поможет Эрнст Юнгер:
«Темой является овладение динамическим миром. Оно может быть осуществлено только при опоре на неподвижное, из центра. Поэтому в рассказах всегда присутствует тайный поиск центральной точки, которая соответствует географической устремленности к полюсам. Там располагается кульминационная точка опасности и там ее побеждает смельчак, как это происходит у Эдгара По в «Малыптреме» и у Джозефа Конрада в «Тайфуне».»[xvi]
Молодой герой романа Африканские игры, alter ego Эрнста Юнгера, юноша по имени Бергер сбежав из комфортного отчего дома и, вполне тихого отца, так никуда и не добирается. Он увязает в обстоятельствах путешествия где-то на середине пути. Бергер приходит к осознанию, что бегство осуществимо только или наилучшим образом только в воображении. Пространство без времени, точка В-Никуда находится внутри человека, и никакие африканские пустоши не способны заменить то чистое, алкаемое всей душой пространство внутреннего человека.
«Но я не помню, чтобы когда-либо потом попадал в места, похожие на то, что описываю сейчас. Оно представляется мне неотчетливо, как ландшафт полузабытого сна, и тому есть причина: я тогда находился в некоей воображаемой точке, в пространстве, существующем лишь в фантазии.
Это отчетливо было заметно по поведению собравшихся там людей. Едва они — обычно с огромными трудностями — достигали своей цели, как их страстное желание добраться до нее сменялось столь же сильным разочарованием, и теперь они с тем же упорством стремились оттуда бежать. Все они искали что-то неопределенное: может быть, место, где законы отменены, может, сказочный мир или остров забвения. Но по прибытии в форт они тотчас же убеждались в бессмысленности своей затеи, и тоска по родине охватывала их, как душевная болезнь.»[xvii]
Интересное замечание в свете концепции блудного сына и "динамического мира", сошедшего с ума. В таком мире, естественное условие — это точка опоры, нечто стабильное или неподвижное, неизменяемый центр, как жизненный ориентир. Цель и точка опоры теперь становятся родственны друг другу. Люди, гонимые мечтой и неудовлетворенностью, встречали в новых местах, городах и пространствах не осуществление мечты, а все те же неудовлетворенность и неосуществление. Трое средних лет американцев высадившись в североафриканском порту отправляются в путешествие не для того, чтобы куда-то добраться в финале романа Под покровом небес. Они теряют связь друг с другом, пустыня и солнце рассасывают, растворяют их пылающие на горячем песке исчезающие фигуры, писатель Порт Морсби умирает в молчаливом городе, а его жена Кит совершает путешествие В-Никуда, утрачивая всевозможные ориентиры: личностные, религиозные, социальны, половые… И в финале возвращаясь в то кафе в порту Орана, откуда они втроем начали путешествие, однако, Кит Морсби совершив путешествие В-Никуда вряд ли могла назваться своим прежним именем.
На первый взгляд события в Сатанинском танго развиваются по определенной схеме, однако, это только ложная мысль, что роман Ласло Краснахоркаи чем-то заканчивается. И это роднит Краснахоркаи с американцем Полом Боулзом. В романах Под покровом небес[xviii] или Вверху над миром[xix] только кажется, что читатель вместе с персонажами двигается от одной сюжетной точки к другой. На самом деле все двигается по кругу, или, если угодно, по очень огромному кругу, и поэтому линия кажется прямой. Сюжетная схема присутствует тут только формально. Есть набор событий и что-то качественное происходит с персонажами, однако это не классический сюжетный путь от и к... И если мы уже вспомнили формализм, скажем, что творчество Краснахоркаи сближает с теорией Шкловского, Тынянова, Эйхенбаума, и поскольку сюжетная схема позволяет отстраниться от людей, вещей и событий в произведении, чтобы усилить мир с иной стороны.
«Эксперимент не удался; я только прибавил к длинной череде сентиментальных путешествий еще одно. Теперь я должен вернуться, должен буду жить, как все прочие»[xx]
Попытка отправиться в путешествие потерпела крах. Если герой Кафки шестнадцатилетний Карл Росман[xxi] на пароходе отправляется в Америку[xxii] и увязает в бессмыслице и череде событий, то Герберт Бергер, персонаж Юнгера просто возвращается, ничего не испытав, ему остается только довольствоваться странной и неуловимой фразой из письма доктора, гласящей, что пережить можно не только на собственном опыте, но и заимствуя или "переживая" опыт другого, отстраненно или зеркально.
«…часы его остановились еще в самолете, так как он забыл вовремя сменить батарейку, а теперь уж… ни к чему, подумал он…»[xxiii]
Я представил его набоковским профессором, орнитологом или шахматистом, который всю свою жизнь пребывает внутри собственного кокона, чеховского футляра и каждый выход в мир или в жизнь сопряжен у него с неимоверными физическими и душевными напряжениями. И смерть у героя, настоящая набоковская смерть под колесами автомобиля. Смерть под колесами авто настолько случайна, бессмысленна, чудовищна, смешна, что остается незаметной для всех участников дорожного движения. И особенно, для тех, кто продолжает целомудренно и легко пить кофе по-гречески в кафе, в тени навесов. Остался чемодан профессора набитый... Тут каждый может пофантазировать, не важно, какие конкретно вещи остались после героя Краснахоркаи и Набокова, важно, что они не оставят никакого следа на теле времени. Возможно, они сами стали временем.
«Он долго ворочал во рту куски мяса, прежде чем проглотить их, воду или (что случалось реже) вино пил медленными глотками и порой чувствовал непреодолимое желание отломить кусок штукатурки от стены старого машинного отделения, служившего ему жилищем, и попробовать на вкус, чтобы по тому, как тот изменился, распознать Предостережение. Ибо он верил, что смерть — своего рода предупреждение, а не ужасный конец.»[xxiv]
«…увиденное оказалось невидимым…»[xxv]
На первый взгляд такая странная фраза в голове персонажа рассказа На вершине Акрополя. Но если вспомнить в каком состоянии находился профессор, через какие тернии ума он пробирался, пока поднимался к вершине античной агоры… А еще мы знаем кое-что про бабочку и Чжуанцзы, поэтому на второй взгляд фраза уже не кажется столь странной.
Реальность есть усилие. Нам нужна сила, чтобы "собрать" свою личность, все ее скрытые возможности. Игра же ослабляет в нас волю к подлинности. Освященное авторитетом игры, так называемое внешнее существование неизбежно мнимое. До определенной степени игра пробуждает личностное начало, игрок почти всегда обладает яркой индивидуальностью, но игра же и кладет предел подлинному личностному существованию. Т.е. можно много и долго играть в игры с реальностью, однако, рано или поздно без усилия над собой, она разлетится как осколки огромного от зеркала.
Совершив полный круг, достигнув центральной точки местности под названием В-Никуда, человек возвращается к себе, обремененный грузом ошибок и потерь, человек способен вдруг увидеть в мутном стекле собственное истинное лицо. В финале романа Африканские игры Герберт Бергер встречает нищего старика — «почтенный старик с серебряной бородой библейского патриарха.»[xxvi] В дешевой корчме молодой герой романа смотрел в глаза патриарха. Он смотрел в глаза собственного будущего. Вот так, в свои шестнадцать лет Бергер в лице нищего встретился с самим собой, со своим будущим, и, как и должно было случиться, не узнал себя и своего будущего. Лишь много десятков лет спустя нищий Бергер встретится с молодым беглецом, полным сил и надежд найти свой путь, и тогда, возможно, замкнется очередной цикл для блудного сына. Так сын встречается с отцом, так Пиноккио примиряется с Отцом, примеряя человеческое сердце.
Короче говоря, в жизни ничего нет кроме самой жизни, которая является тем, чем является, дорогой к смерти, по ходу к которой можно прийти В-Никуда и познать себя, постичь полноценное Бытие. Вот и для профессора рассказа Ласло Краснахоркаи не было
«…ничего более смешного, чем вспомнить, до какой степени он сегодня утром был полон желаний, до чего нелепы все эти желания, когда можно бы чувствовать себя куда более счастливым, останься он здесь, с ними, попивай кофеек и наблюдай за сутолокой движения, за тем, как с безумной скоростью проносятся туда-сюда машины, автобусы, грузовики, он чувствовал себя смертельно усталым, и для него больше не стоял вопрос, чем он станет заниматься отныне, сядет со своими новыми приятелями и точно так же, как они, ничего не будет делать, съест чего-нибудь, выпьет, затем последует очередное холодное как лед кофе по-гречески и блаженная, длиною в вечность, расслабленность…»[xxvii]
Он удачно выбыл из жизни, если можно так сказать.
Счастливая смерть в том смысле, что он умер, когда что-то понял очень важное для себя. После такого постижения уже нет смысла продолжать существование, а передать его как опыт к счастью невозможно до сих пор.
Таким образом, у Ласло Краснахоркаи персонаж рассказа, страдая болезнью “Belle Époque”, т.е. не обозначенной, неосязаемой пропажей, утратой времени, приезжает в Афины, туда, откуда началось современное, европейское сознание. В поисках времени, в поисках себя, теряя все на своем пути: связь с афинскими друзьями, чемодан с личными вещами, связь со временем и пространством центра города, где от эллинистических идей, наверное, мало что осталось, он поднимается на Акрополь. Без воды, без защиты от палящего солнца он теряет последнее - связь с собой, превращаясь в оголенную и чувствительную духовную сомнамбулу, которой невозможно достигнуть пика, пика жизни, поскольку он пик, всегда оказывается в прошлом, через миг после настоящего. В-Никуда – это место, где виды времени объединяются с целью.
Coda
Блудный сын в наш век никогда никуда не доберется, потому что сейчас все дороги и пути ведут В-Никуда. Если этого не понять, то можно бесконечно долго бродить по линиям, кругам, зигзагам и прочим маршрутам судьбы и жизни, но визита или возвращения к Отцу так и не состоится. Теперь вся дорога сокрыта внутри каждого, все пути ведут, если того пожелает человек, внутрь собственного мира. Там все отгадки и смысл существования. Пиноккио Карло Коллоди и Маттео Гарроне, чтобы из деревяшки превратиться в человека, необходимо было взбунтоваться против своего отца, пройти испытания совести и, в итоге, стать истинным человеком. Так и современному человеку необходимо не просто взбунтоваться против мира, против отца, против морали или законов общества, не достаточно придумать свой мир и свои законы, необходимо дойти через внутренние терния к себе истинному. И даже больше, чтобы обрести полноценное Бытие, человеку/Пиноккио необходимо отказаться от деревянного внешнего тела, необходима смерть тела, внешнего бытия.
Герои произведений искусства давно превратились из титанов и полубогов в персонажей, подвиги им больше не по плечу, за исключением маленького ареала в современном искусстве: я говорю о жанровом, зрительском и коммерческом искусстве, основа которого с согласия зрителя манипулировать сознанием и игрой, ослаблять натянутые тросы времени. За границами этой зоны титанов и героев не найти днем с огнем. Герои превратились в персонажей, блеклые тени прошлого величия. Персонажи Юнгера, Гомбровича, Боулза, Краснахоркаи, Мартона, отправляясь в путешествия, знают или догадываются, или не знают, что возвращение им не светит. Впереди маячит на дороге фальшивый огонек успеха и судьбы. Отчий Дом не где-то за горизонтом, а в самом человеке, путешествие В-Никуда заканчивается в самом человеке.
Yarr Zabratski
[i] Мартон Ласло. Зашла попросту, ненадолго… // Неман. - №3. – 2010. – С.137
[ii] Там же. С.137
[iii] Краснахоркаи Ласло. Сатанинское танго. Пер. с венг. Максима Леонова, 2015 // https://flibusta.site/b/416350/read
[iv] Юнгер Э. Африканские игры. — М.: Иностранная литература, 2014
[v] Краснахоркаи Ласло. Сатанинское танго. Пер. с венг. Максима Леонова, 2015 // https://flibusta.site/b/416350/read
[vi] Краснахоркаи Ласло. На вершине Акрополя // Неман. - №3. – 2010. – С.138
[vii] Мартон Ласло. Зашла попросту, ненадолго… // Неман. - №3. – 2010. — С.143
[viii] Там же. С.143
[ix] Краснахоркаи Ласло. Сатанинское танго. Пер. с венг. Максима Леонова, 2015 // https://flibusta.site/b/416350/read
[x] Там же.
[xi] Там же.
[xii] Там же.
[xiii] Там же.
[xiv] Там же.
[xv] Краснахоркаи Ласло. На вершине Акрополя // Неман. - №3. – 2010. – С.141
[xvi] Юнгер Э. Годы оккупации.— СПб.: Изд-во: Владимир Даль, 2007
[xvii] Юнгер Э. Африканские игры. — М.: Иностранная литература, 2014
[xviii] Боулз П. Под покровом небес: Роман, рассказы / Пер. с англ.; Предисл. А. Драгомощенко; Послесл. А. Скидана. — СПб.:«Симпозиум», 2001. — 408 с.
[xix] Боулз П. Вверху над миром. — Тверь: Kolonna Publications, Митин Журнал, 2007. — 208 с.
[xx] Юнгер Э. Африканские игры. — М.: Иностранная литература, 2014
[xxi] По возрасту он ровня герою Эрнста Юнгера пареньку Герберту Бергеру. Они не только ровесники, но и современник, поэтому в своих бегствах-путешествиях вполне могли где-то, в каких-то европейских, средиземноморских портах пересекаться, пока один не отправился в Африку, а второй в Америку.
[xxii] Кафка Ф. Пропавший без вести (Америка): сборник: пер. с нем. — М.:АСТ, 2005 — 413 с.
[xxiii] Краснахоркаи Ласло. На вершине Акрополя // Неман. - №3. – 2010. – С.141
[xxiv] Краснахоркаи Ласло. Сатанинское танго. Пер. с венг. Максима Леонова, 2015 // https://flibusta.site/b/416350/read
[xxv] Там же. –.144
[xxvi] Юнгер Э. Африканские игры. — М.: Иностранная литература, 2014
[xxvii] Краснахоркаи Ласло. На вершине Акрополя // Неман. - №3. – 2010. – С.146