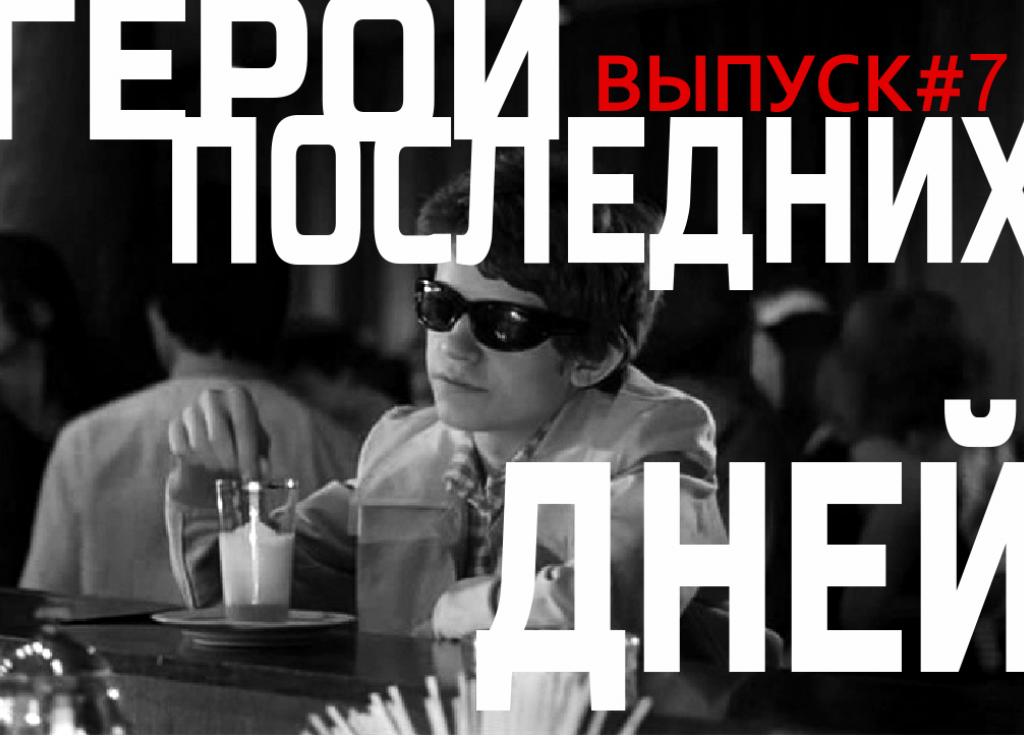27.12.22 08:12

1. Эрнст Юнгер в своих дневниках, опубликованных под обложкой "Годы оккупации" пишет 17 октября 1945 года, что наткнулся на книги Карла Мая. Они, дескать, повлияли на его юношеское решение сбежать из дома и вступить в Иностранный легион. Между этими событиями улеглось около 35 лет. Приблизительно от 1910 и до 1945.
Первая дата это только предчувствие, тихое вхождение в сумрачный лес окончания истории или смены вех, и вторая дата, это начало нового мира. Я наложил этот срок в 35 лет на свою личную историю. Если от сегодняшнего момента отнять 35 лет получиться середина 80-х. Время перемен, смены эпох, закат страны, в которой я родился, ожидания больших свершений, которые всегда питают юношеские души в начале пути, не обремененных опытом или знаниями, а только предчувствием, предугадыванием своих жизненных желаний и потенций. Тогда казалось, что ты находишься на вершине истории, что современность — это ты и есть, каждое твое действие и мысль наполнены современностью и вечной актуальностью.
2. А последние 15 лет ХХ века пугали своей непредсказуемостью и манили новыми и новыми открытиями. Я помню, как мальчишка из соседнего двора, когда мы вместе шли купаться в соседнем котловане, оставшемся после стройки цеха близлежащего завода им. Петрова, заполненного дождевой водой, рассказывал, что вчера по центральному телевидению смотрел выступление Рафаэллы Карры, девушки с перчиком, как ее называл сеньор Робинзон в одноименном фильме. И это было восхитительно. От того, что ты тоже смотрел это выступление, от того, что ты молод, от того, что впереди 15 лет двадцатого, очень «короткого», века, перетекающего в век двадцать первый, и от того, что впереди было больше времени и пространства, чем позади тебя. А в котловане что-то сохранившем от платоновского ювенильного моря плавали лягушки и мелкие рыбки, которых мы почему-то называли гамбузиками. Желто-оранжевая вода водоема напоминала солончаковые степи Апшерона, пропитанные за последние полтораста лет черной кровью бакинской жирной нефти. А потом…, а еще…, а вечером… Ты знаешь, что дома тебя ждет полная чаша фруктов, купленная отцом на сабунчинском базаре. И светит жаркое бакинское солнце, которое, казалось, никогда не перестанет светить… И вечернее томление то ли плоти, то ли чего-то внутреннего сокровенного в предвкушение еще неизведанного… И контур Большой Медведицы в ультрамариновом ночном южном небе, который навсегда у меня связался с городом моего рождения и детства. С тех пор когда я вижу сочетание этих звезд, я вспоминаю летнюю бакинскую ночь, в которой раздавались мугамные завывания нефтяных вышек. Это скрипели, свистели приводные ремни на моторах, которые склоняли носатые и гордые вышки, высасывавших из земли все ее тайны.
3. Или вот ещё: если ступить на год вперёд, в 1986. Мне 15 лет. Год, как «царствует» последний генсек Горбачев. На экраны страны, как раньше писали, вышел художественный фильм «Радуга», с героем мальчиком Радугой. Между днём настоящим и выходом фильма улеглось почти те же 35 лет. А если от года моего рождения отмотать 35 лет, то выйдем ровно на 37 страшный год и год рождения моего отца. Для меня этот год в сознании находится на уровне архаики. Я могу понять его прагматично, используя средства исторической науки, но он все равно будет далёк и чужд для меня. А 86 год словно и сейчас рядом. В апреле «бабахнул Чернобыль», я собирался в свой последний пионерский лагерь и среди нас поползли слухи, что к нам приедет много-много украинских детей, наших ровесников. И конечно, будет много девчонок, которые будут поголовно радиоактивными, так мы обманывали сами себя. В лагерь я в итоге не поехал, но по другой причине. Еще 1986 год мой последний учебный год, когда мы всем классом пели песни мальчишки Радуги. Я помню, что в этот год мой друг-сосед уезжал учиться на военного. Мы слушали итальянскую эстраду, приглушая звук кассетного магнитофону, поскольку в соседнем доме скончался пожилой сосед. Но нам было не до него… У нас только все начиналось. И еще помню, что в тот год, я в первый и в последний раз увидел своего отца сильно пьяным. Он вернулся от друзей-цеховиков, где они пили водку и жарили шашлык. Запомнилась почему-то одна фраза отца про «архиерейские часы», это он заводил наш старый будильник, потому что рано утром он уходил на работу. Поэтому 86 год — это то, что помимо всякого исторического анализа и научной методологии, я в состоянии ощутить и сейчас. Этот год для меня навсегда оказался рядом, прошлогодним годом. Как поет Алик Радуга в песне Зурбаган: «И проснусь я в мире невозможном, где-то между будущим и прошлом».
И это не настоящее, а где-то между прошлым и будущим, у которого нет точного названия.
А 90-е ХХ века были еще впереди…