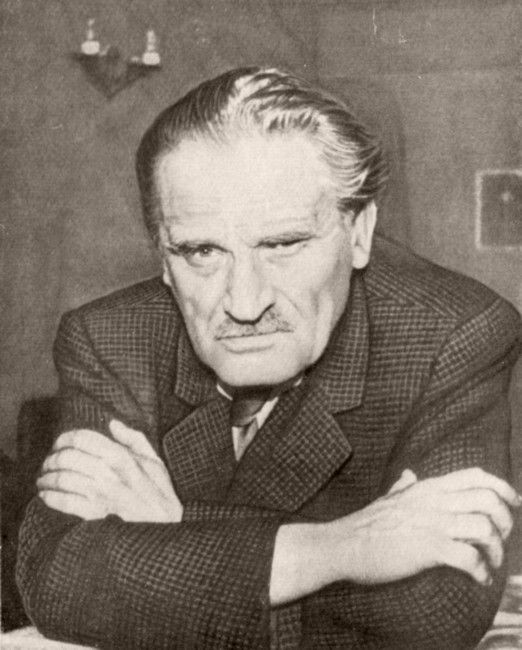21.05.18 02:05
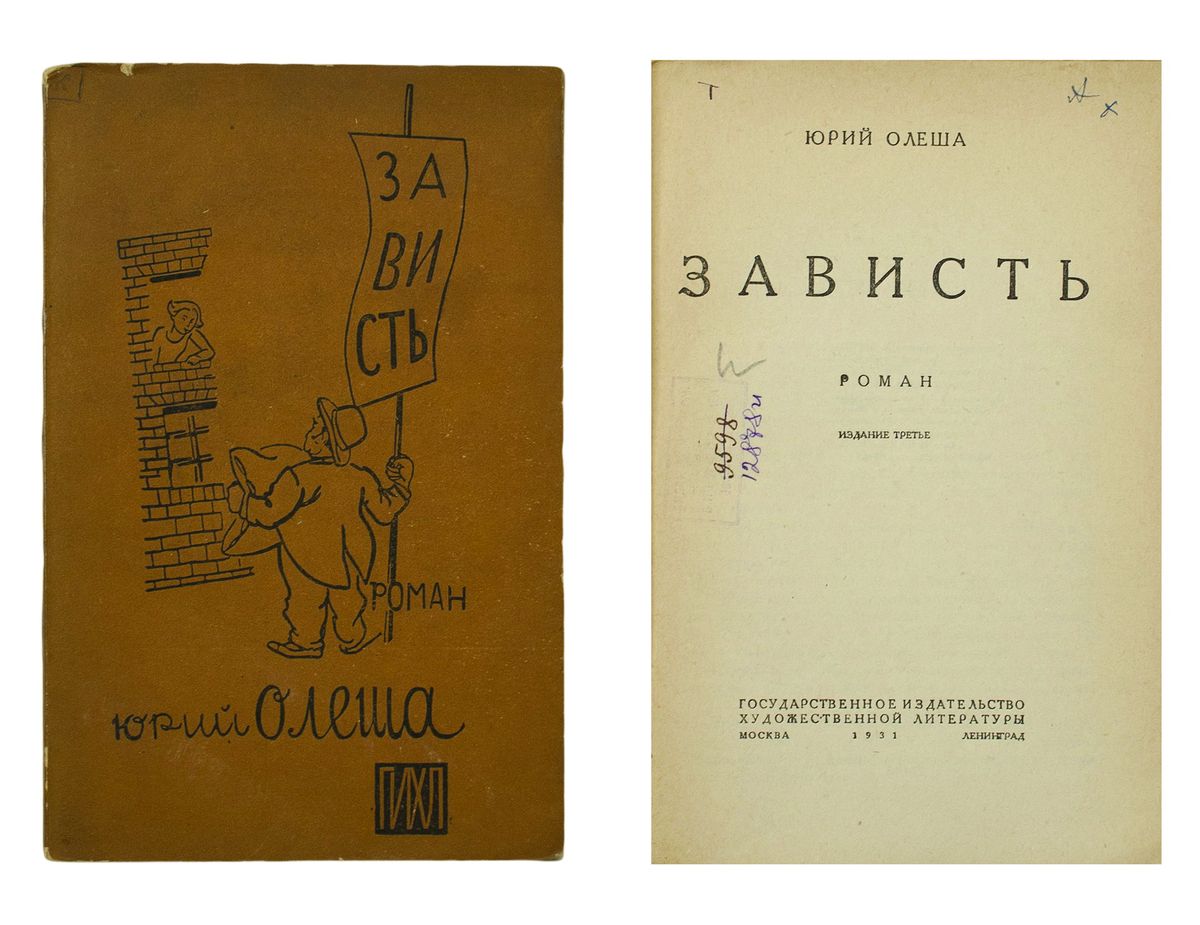
А мы продолжаем публикацию материалов, посвященной забытой или почти забытой фигуре украинского писателя Юрия Олеши. В первой и второй частях речь шла о влияние детских событиях и поворотных точках в биографии писателя, а также об увядание и старости, как о постоянном рефрене в дневниках Олеши. В заключительных частях: латентное сопротивление советской власти, как способ сохраниться как писателю, для которого пустая страница важнее, ангажированной и идеологически мотивированной; а также о генезисе читательских пристрастий гениального писателя.
Гимнаст Тибул против советской власти и второе предательство
Конец надежд на новый мир в отдельно взятой стране совпал у Юрия Карловича с крушением всех надежд и в его личной жизни. Усатый «пахан» с трубкой в руках нависал стальной тенью надо всею стонущей страною. А Олеша встретился со вторым предательством. На этот раз его Дружок, его Сима, его первая одесская любовь ушла, уходила много раз, к бухгалтеру, к поэту, возвращалась к Олеши, но все же оставила его навсегда. Этот второй удар, который так и не преодолел писатель. Боль от потери Дружочка смешалась с сомнениями в тех изменениях, которые претерпевала в политической и социальной плоскости страна рабочих и крестьян.
Олеша очень мало в письменном виде выражал свое недовольство советским строем. Упомянутая ассоциация Сталина с женщиной, точнее, с женским голосом, несколько раскиданных по дневнику упоминаний о репрессиях тех или иных знакомых и, наконец, критика своих коллег по писательскому цеху, советских писателей, обласканных режимом. Можно предположить, что критические и ядовитые высказывания Юрия Карловича в их адрес – это всего лишь нездоровая зависть талантливого, но не успешного в план коммуникабельности и лизоблюдства писателя. Но, нет, не торопись, читатель! Если ты возьмешь книжки тех авторов, про которых не очень хорошо высказался писатель Олеша, то ты поймешь, что не в зависти дело, а точнее, совсем не в этом дело. Наверняка, многим и не знакомы некоторые фамилии «золотых» писателей, лауреатов всевозможных сталинских премий и т.д.
Вот о Шолохове:
«Боже мой, зачем это? Неужели важно, что сказал Шолохов, неужели важно присутствовать на съезде, быть выбранным на него или невыбранным? Неужели отношение горсточки самых обыкновенных, но только умеющих играть в карты людей — отношение к тебе Симонова или Суркова — можно так близко принимать к сердцу? К вечному сердцу, пришедшему к тебе в грудь на той лестнице — на звезде! — где первая ступенька бог знает где, а последняя — это твоя мать?»
О Павленко:
«Прочел — кстати, довольно бедные — записные книжки Павленки. Несколько художественных записей на высоком уровне. Остальное — вовсе не какие-либо размышления с самим собой, а просто высказывания, которые, не будучи называемы записной книжкой, могли бы без особого впечатления на публику просто печататься по какому-нибудь поводу в «Вечерке». Или феномен действительно по-коммунистически рассуждающей личности, или просто карьеристское притворство. Думаю, что последнее.
Я его никогда не любил. Дергающийся веком глаз, не артистическая душа, внешность. То начинал вместе с Пильняком, вернее, начинал с совместного романа с Пильняком, то вдруг такой прыжок в руководство, в «ведущие писатели». Писание пьес в сотрудничестве с Радзинским! Зазнался, жизнь не по душевному бюджету…
«Все это неправда! Не было там ни чахотки, ни Италии, ни литературы! Скороспелая карьера, опиравшаяся, с одной стороны, на то, что было схвачено у Пильняка, с другой — на наивность Горького. Колоссальное материальное благополучие, позорно колоссальное при очень маленьком даровании.»
Об Ал. Толстом:
«Вернувшись из эмиграции, Алексей Толстой, еще не разобравшись в обстановке, ориентировался на меня, на Катаева… Он первых посетил именно нас, мы заняли тогда довольно выдающееся положение. Итак, стоит посередине комнаты — в комнате этой, правда, середины не было, — вероятно, подвыпивший; расспрашивает нас, получает информацию, неправильно ее истолковывает, подлизывается слегка к нам… Так начиналось, и вдруг, смотрите-ка, именно советская карьера! Депутат, лауреат, участник всяких торжеств, приемов, Сталин передает ему свою трубку…»
Кадр из диафильма «Три толстяка» / Источник: diafilmy.su
Эти точные характеристики-портреты, как самих бонзо-писателей, так и их творчества раскрывают внутреннюю сторону событий и жизни «великих», тех самых, чьи произведения несчастные советские школьники вынуждены были учить, как образец морального, гражданского и пр. поведения авторов и их героев при построении самого «демократического» и «свободного» общества на свете.
Вот так осторожно, совсем не по-диссидентски, пытается Олеша понять основы или истоки того строя, в который затянул его коммунистический эксперимент.
«Взрослость в том смысле, как понималось это в буржуазном воспитании, — означала утверждение в обществе и большей частью — через овладение собственностью. У нас уничтожили собственность. Что такое теперь — положение в обществе? В каком обществе? Из каких элементов слагается современное общество?»
Никогда не думал об этой связи. Собственность и «взрослость», а точнее, ответственность. Она только в России? Ведь на Западе модерн точно сделал свое грязное дело и вечное взросление сделалось символом эпохи.
«Всем заправляет мой класс: и театром, и столицей, и модами, и думами, и идеологически, и материально. Ведь в конце концов надо признаться: я мелкий буржуа, который мечтал бы всю жизнь стать крупным хозяином. Ужасно, но это так. В крови, в клетках мозга… И пока буржуа строит завод для общества, где буржуа не будет, я, ставший автором театра, построенного буржуа, нахожусь в состоянии полной растерянности: я не буржуа и не новый человек — кто же я? Никто. Функция во времени. Я — моя собственная мысль, зародившаяся в детстве.»
Внутренний анализ советского общества, где человек должен быть мясом на войне или на стройке и все во имя будущих поколений, а следующие поколения приходят и тоже отправляются властью (царя, генсека, президента) на очередную бойню по периметру анклава. И кроме анализа, это еще и попытка понять себя и других, свою роль и роль нового общества, попытка связать лозунги и обещания с реальным миром, который окружал Олешу. И все попытки оканчивались неудачей, все пробы идентифицировать с новым классом в бесклассовом обществе приводили в полную фрустрацию и не только писателя Олешу, но и всех, критически мыслящих граждан, для которым навязанные аксиомы о лучшем строе на свете оказывались не столь убедительными.
Протест Олеши не был явным или политизированным. Я думаю, что он сам и не осознавал себя как «протестанта» официальной лжи и реальность, с которой сталкивался ежедневно писатель, вынудили уйти его во внутреннюю эмиграцию. Там, где не нужно говорить пустых слов, там, где молчание дороже всего на свете, но за него надо платить собственной жизнью и забвением.
Про Достоевского и итоги
«Читал «Бесы», случайно попавший в руки второй том. Я этого «великого» писателя не люблю. Никто, как он, не навязывает читателю своего характера. Я не вижу унижения там, где он его видит. А он хочет, чтобы я разделял с ним его взгляд на унижение. Он предлагает мне оттенки, а мне даже и основной фон не понятен, чужд, не важен. Это меня раздражает, настраивает против. Он все-таки маньяк.»
Так писал Олеша в Ашгабаде в 43 году. Какое издание он читал? Ведь Достоевского не издавали при Сталине и только в середине 50-х подготовили новое издание, в котором советская цензура, как правопреемница царских цензоров, пропустила в «Бесах» шестую главу «У Тихона».
Роман зависть. Издание 1933 года / Источник: izhinet.ru
Что могло напугать голодного писателя, все мысли которого в эвакуации были заполнены только мыслями о еде? В той ситуации, в которой оказалась советская империя: война, диктатура, миллионные смерти, моральная деградация, тотальное пренебрежение жизнями своих граждан, обесценивание смысла существования, жестокая идеологическая и агитационная проработка в условиях войны, отсутствие перспектив, даже при условии победы над фашизмом… Я могу лишь предположить, выстроить неловкие и неровные гипотезы, но все же, думаю, что эта общая обстановка, которую можно назвать «победой без будущего» ощущалась не только писателем.
И постоянные мысли о старости. Причем старость его пугала уже тогда, когда еще было рано об это говорить в точки зрения физиологии, здоровья и пр. В 40 лет с небольшим, рано, наверное. Творческий кризис, внутренняя эмиграция влияли и на самоощущения.
«Утром смотрю в зеркало и поражаюсь старости. Как странно! Всю жизнь неодолимо держится уверенность в том, что она еще будет в тех формах, которые уже давно прошли и, конечно, не повторятся. Кажется, что я еще буду не седой и такой, как был лет десять назад. Между тем этого не будет.»
Обещание Олеши, которое он выполнит к концу жизни в форме дневника:
«Когда-нибудь я обязательно напишу рассказ о том времени — о самой большой тревоге, которую я пережил в своей жизни.»
По сути дела, он писал всегда, он писал постоянно, в иной форме, не в такой эпическо-реалистическо-структурно-романной, а в форме дневникового фиксирования своих мыслей, рефлексии на те или иные толчки извне во внутрь и обратно.
«Как хотелось бы вернуться хоть на некоторое время в тот воздух ожидания будущего, которым дышала тогда здоровая и юная душа гимназиста, впервые в те годы смотревшего и на реальный, и на воображаемый мир. Неповторимо… А кажется, что стоит только опять побывать в Одессе и с книжкой Эдгара По одиноко пройти по Куликову полю, чтобы вновь почувствовать то вибрирующее чувство предвкушения будущего, которое и было существом здоровья и молодости.»
Болезнь поразила Олешу после войны. Теперь его ничего больше не сдерживало. Он запил. Болезнь эта называлась не алкоголизмом, не белой горячкой, как я говорил выше – это жизнь без будущего. У внутренней эмиграции есть свои плюсы и минусы, минусы – это отсутствие свежего воздуха, и ограниченное пространство для развития творческой сноровки. Фальшивые проявления счастья от успехов народного хозяйства и разработок тяжелой промышленности, от выпуска новых моделей танков и ракет, истончали и так почти невидимую оболочку души. Видимо, гимнаст Тибул и оружейник Просперо мечтали о другом мире, когда боролись с невинными по нынешним меркам диктаторами-«толстяками». Сказка, было сочинена для девочки-подростка Вали Грюнзайд. Однако, Валя выросла и вышла замуж за Евгения Петрова (брата Валентина Катаева), скоро сделалась вдовой, Петров погиб на фронте, а Юрий Карлович потерял одну Суок, но обрел вторую – Ольгу Суок.
И это было третье и последнее предательство в жизни Юрия Олеши, и оно опять было связано с женщиной; - женщины, которых он любил оставляли его и уходили к другим, в другую жизнь, в которую писателю вход был заказан, с того момента, когда одесский доктор нашел в его сердце порок, с тех пор, когда дворовые мальчишки сажали его на лошадь и отбирали винтовку-игрушку. Именно к концу 20-х гг. писатель получил сполна свою порцию жестокости, которая совпала со сворачиванием надежд, в этот же отрезок времени, на новую жизнь после революции. Олеша остается один с больным сердцем, с душой полной урезанными надеждами и с женой Ольгой Суок, которая не смогла восполнить его душевные утраты, а была лишь покорным и преданным и надежным спутником.
Порой, при чтении страниц дневника тебя охватывает чувство, что это уже было, такие строки или похожие ты читал ранее. И, конечно, ты вспоминаешь Достоевского, его Мармеладова, которым иногда на станицах своего дневника становился сам Юрий Карлович. Например, сцена в забегаловке, где он встречает «старичка» со свертком копченой севрюги:
«Не угодно ли кусочек?» — спрашивает старичок. Его перочинный нож уже навис над плиткой.
«А что? Севрюга?» — спрашиваю я.
«Хорошая, свежая».
В дальнейшем я посвящаю все свои силы тому, чтобы отделить кожицу от куска с тем же отсутствием спешки, как это делает старик… Хороший старик! Как он все это хорошо делает — с удовольствием, со вниманием к прелести того, что происходит.
«Кто из вас старше?» — раздается сбоку вопрос.
Я слышу его, этот вопрос, но никак не могу подумать, что он имеет отношение ко мне.
«А? Кто старше?»
«Мне семьдесят», — бойко отвечает старик.»
Или вот еще:
«Помню, я встретил некоего театрального деятеля, у которого попросил десятку (мне в ту пору ничего не стоило обратиться с подобной просьбой к знакомому — разумеется, я просил денег в долг), и поскольку этот столб в шубе неожиданно оказался щепетильным, то я стал обладателем двадцати пяти рублей. Уходя от него, я оглянулся и увидел, что он стоит и смотрит мне вслед. Я помахал ему рукой, он кивнул мне. По всей вероятности, он думал о том, что вот, мол, бывает с человеком — известный, смотрите, писатель, а вот спился, побирается. Я заметил, что он кивнул мне не просто приветственно, а с каким-то оттенком, я бы сказал, назидательности: хорошо, я тебе кивну, но что из того, ты пойдешь и напьешься.
Я еще раз оглянулся, он шел, унося длинную под волнами коричневого сукна спину.»
Здесь мы встречаем целый клубок литературосплетений. Достоевский и Гоголь. «Униженные и оскорбленные» и «Шинель», Мармеладов и Акакий Акакиевич. С Акакием Акакиевичем еще интересней. Он в этом куске выступает в двух ипостасях, двоится, дуально распадается.
Это пишет революционный писатель, одессит, принявший всем своим человеко-литературным существом идею нового мира через революцию, через ревизию старого мира, во имя мира, а точнее, во имя новых людей, новой человечности. Автор героической и революционной сказки-романа «Три толстяка», где пороки старого мира сметаются толпой оружейников, циркачей и ученых-изобретателей. И вдруг (или по истечению срока сроков), мы видим, что окрыленный эпохой писатель сам превратился в Акакия Акакиевича, того самого, который из книги в книгу, из века в век переходил без надежд, и обманутый «революционной надеждой» вернулся в свое исконное состояние пьяного и нищего Мармеладова и безшинельного титулярного советника, просящего три рубля на водку и читающего во взглядах нового поколения советских бонзо-писателей смесь любопытства, осуждение, пренебрежения.
«Он (бонзо-писатель - Я.С.), хотя я и стоял лицом к нему, увидел бахрому на моих штанах…»
Олеша вновь предстал пред людом собственным персонажем гимнастом Тибулом, тем самым, который с оружейником Просперо поднимали людей против старого мира. Героем ненаписанного на бумаге, но вписанного в скрижали жизни плотью и духом.
«Я хочу, чтобы те, кто будет читать эту книгу, знали, что пишет ее человек-животное, человек…»
Будь то старый или новый мир, любому миру необходимы свои толстяки, оружейники и гимнасты. Есть лишь одна истина, она перемалывает в порошок любые помыслы и жизни, превращая их в пыльные и тяжелые воспоминания на старости лет.
Юрий Олеша / Источник: book-hall.ru
К концу жизни у Олеши меняются вкусовые предпочтения и литературные ориентиры. Если раньше он восхищался Гоголем, то теперь, наоборот, критикует. С Достоевским, обратное, хвалит к этому времени относится работа Олеши над инсценировкой «Идиота» (середина 50-х).
Таким образом, Юрий Карлович Олеша переставший быть интеллигентом царской эпохи, но и не ставший интеллигентом нового, советского образца, образчика, сумел сохранить не тронутыми свои базовые нравственно-человеческие основы. В отличии от многих исследователей творчества украинского писателя, думаю, что Олеша не стал полноценной частью советской литературы, он в самом начале отказался принимать статус бонзо-писателя и все вытекающие из него бонусы. «Сдачи и гибели советского интеллигента» не было. Поскольку, необходимо что-то иметь, чтобы сдавать. А Олеша не успел «разжиться» никакими материальными благами, включаю московскую квартиру и прописку. Когда у советского человека нет квартиры, дачи, машины, партийного билета в кармане, мыслей о карьере и пр. материальной шелухи, то им трудно управлять и манипулировать. У Олеши осталось только литература, и путь в «большую советскую» ему был заказан. Поэтому отказавшись от литературы, целыми периодами жизни не выходя из запоев, Олеша остался человек и писателем мировой литературы.
Важным методом по инкорпорации бунтарей, стирания памяти, тех отрезков «революционных событий», которые могут повлиять на устойчивость системы, среди прочих, является литература, литературное творчество. На защиту нового отца становятся вчерашние революционеры, часто из-за угрозы жизни или уже деградированные алчные мастера пера, но и в очень отлаженной, высокотехнологичной системе случаются сбои, ошибки или, просто факторы морального плана: «человеческий фактор». На мой взгляд Юрий Олеша был именно такой «ошибкой» в четкой машине забвения, он не захотел и не смог (среди остального редкого количества нравственных типов) играть и жить по фальшивым правилам, за что и поплатился своим творчеством. Добровольное молчание спасло его душу, но и не позволило максимально полно реализоваться, как писателю. Но, о боже, парадокс, Олеша, превратившись в слабого человека, остался до конца дней писателем.
Ян Синебас