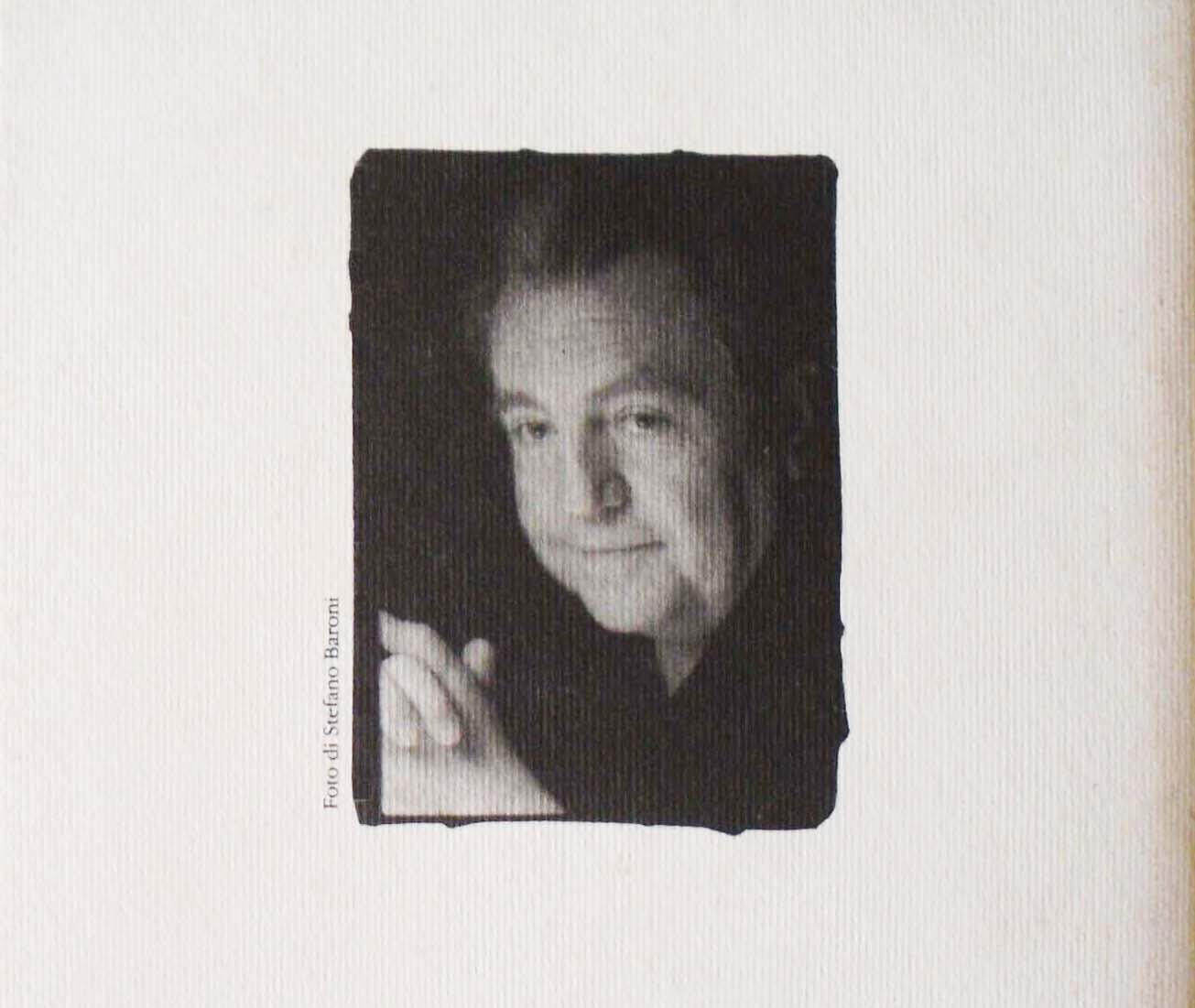27.11.18 12:11
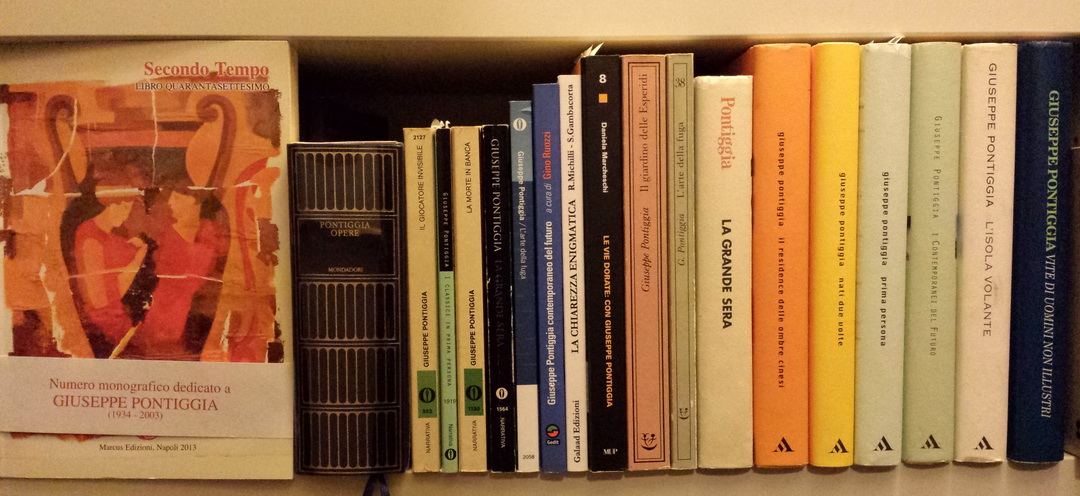
Роман Джузеппе Понтиджи впервые на русском был опубликован в 1983 году, в урезанном варианте издателями и жанрово определялся как повесть, где автор, перемещаясь через три временных слоя: 20, 40 и 60-е ХХ века, исследует природу предательства, влияния политических конъюнктур на человеческие взаимоотношения и отношения человека к тому или иному историческому отрезку, в зависимости от доминирующей (зачастую, навязанной) тенденции в обществе. Среди фабулы преследований, подозрений, убийств и предательств, возникает странная фигура библиофила Перего, укрывшегося от бурь и тревог в своем доме, под завязку заполненного книгами, для которого книга обретает больше смысла, чем вся политическая борьба, любовные драмы, утраты социального статуса первостепенных персонажей романа Понтиджи. Вот эта глава.
В конце вымощенного булыжником переулка, круто карабкавшегося вдоль отвесных стен старой части Бергамо, возвышался башнеобразный домик учителя Перего. Переселившись сюда после смерти родителей в 1913 году, учитель сразу осведомился у опытного каменщика, насколько прочен фундамент. «Вы, часом, не турбину желаете тут поместить?» — спросил тот с добродушным ехидством. «Нет, библиотеку», — ответил Перего. «Тогда не волнуйтесь. Простоит до конца вашей жизни».
Но когда через одиннадцать лет Перего вновь задал каменщику тот же вопрос, мастер не нашел что ответить, оказавшись в комнате со стеллажами, которые не только закрывали все стены, но и громоздились на самой середине до потолка. Даже днем в доме приходилось зажигать электричество, ибо из-за великого множества книг свет еле просачивался сквозь окна. Каменщик потопал ногами по полу, прислушался к отзвуку и спросил учителя: «Вы и дальше намерены покупать книги?» — «Конечно». — «Тогда дело швах, — сказал мастер, переминаясь с ноги на ногу и комкая в руках берет, запачканный известью. — Разве можно наваливать столько книг?» — «А как же быть?» — «Давайте посмотрим другие помещения». Они прошли в гостиную, кабинет, спальню: повсюду были книги — на этажерках, на полках, в нишах. «А подпол?» — «Там уже нет места».
Тут мастер развел руками: «Эта задача мне не по силам, решайте ее сами». — «Но как?» — «Не покупайте больше книг». — «Но это невозможно», — возразил с мрачной решимостью учитель. Собеседник посмотрел на него и неожиданно смягчился: «А нет ли у вас наружного помещения?» — «Да, площадка на крыше». — «Пойдемте туда». Наверху, прислонившись к бортику ограды и глядя на освещенную солнцем зеленую равнину, простиравшуюся до самого Милана, он предложил: «А если навесить тут крышу?» — «Каким образом?» — «Пристроить стены. Тогда у вас появится новое место для книг. Что-то вроде оранжереи». Учитель не скрывал охватившего его волнения: «А температура?» — «Смотря по погоде, — ответил каменщик. — Вам же здесь не жить, но книги будут в укрытии».
Так площадка превратилась в висячую библиотеку, и снизу, с улицы, через большое, почти всегда закрытое окно были видны бесконечные книжные шкафы. Учитель часто таскал наверх новые книги и, раздвигая ряды прежних, на глазок примерял, сколько еще остается места. Он подсчитал, что хватит еще лет на семь. Что будет потом, он не знал. Перестраивать дом было невозможно. В этом вопросе мастер был непреклонен, и его предупреждения звучали как угроза. Но и отказаться от покупки книг учитель был не в силах. Поэтому будущее представлялось ему двумя сходящимися дорогами: в месте их слияния его ждала смерть. Но это была тихая кончина, сдача позиций перед лицом неизбежного. Наступление роковой минуты можно было оттянуть отказом от части книг или увеличением числа полок. Но лишь на месяц-другой.
Когда, очнувшись от печальных дум, учитель Перего бросал взгляд на книги, вылезшие уже на крышу, он чувствовал, что ему надо переменить образ жизни. Тогда он прислонялся лбом к стеклу, и взор его, затуманенный слезами, падал на скаты крыш, улицы, кипарисы, людей, приветствовавших друг друга при встрече. Часами стоял он неподвижно, пока не проходило смятение, оставляя после себя странное чувство опустошенности и жалости к самому себе. Тогда он открывал окно и старался глубже вдохнуть холодный вечерний воздух. И если прохожим случалось в это время поднять глаза, они видели, как из башенки высовывается человек и смотрит вдаль, словно сторож на маяке.
Был один вопрос, которого Перего, подобно любому обладателю множества книг, редко удавалось избежать. Вопрос этот казался ему не самым ярким, но весьма тревожным показателем всеобщей деградации. «Неужели вы прочитали все эти книги?» — спрашивал его.
Он пытался отвечать по-разному, хотя и понимал, что самое лучшее было бы просто пожать плечами. Вопреки очевидности и рискуя прослыть безумцем, он пробовал отвечать утвердительно. Собеседники, как правило, застывали в изумлении, а самые неискушенные, в душе которых сомнение боролось с восхищением, продолжали допытываться: «Так-таки все?» — и на повторенное с вызовом «да» качали головами.
Другим он пытался внушить, что книги — это не скоропортящееся блюдо, которое нужно съесть сразу, а запас на черный день, отрада в холодные зимние дни и дождливую летнюю пору. Радость ожидания, твердил он, не менее сильна, чем радость обладания, и уж во всяком случае намного продолжительней. При этих словах люди смотрели на него со снисходительностью, как мы смотрим на чудаков, страдающих менее серьезными, чем мы, недостатками.
Иной раз он сравнивал свое отношение к книгам с любовью к женщине. Многие считают, утверждал он, что есть только один способ обладания — так называемое «полное обладание». Но это плод бедной фантазии и, возможно, заблуждение. Что такое обладание? Его путают с вырвавшимся в экстазе «да» вопреки множеству затаенных в душе «нет». Но существуют способы более долговечного обладания. Основанное на сомнении, оно отличается большей трепетностью и утонченностью, а питаемое ненавистью – большим постоянством и затаенностью. И к тому же разве обладание так уж и важно?
Он вспомнил испытанное им стеснение, когда учительница физкультуры, работавшая вместе с ним в лицее Пасколи, впервые предложила ему себя в кабинете физики. Некстати повторяя «я твоя», она лишила его всякой возможности принять столь лестное предложение. А что значило обладать книгой? Прочитать ее от корки до корки? Но не лучше ли перелистать немногие интересные для тебя страницы, предоставив другие более сведущим ценителям? Некоторые действительно считали чтение (а так же любовь) испытанием на терпение и не отступали до тех пор, пока с тоской и натугой не доводили дело до конца.
Другие посетители, напротив, дружески помигивали и сразу заговаривали о страсти к коллекционированию. Удовлетворение, которое они при этом испытывали, — большинству людей знакома радость, приносимая удачно найденным после долгих поисков определением, — заставляло его отказываться от всякой попытки развеять их заблуждение.
Джузеппе Понтиджа
В лучшем случае он старался не давать пищу новым заблуждениям. Не гонялся, например, за редкими или исчезнувшими с прилавка книгами, лишь сетовал, почему их не переиздают. Из его слов можно было понять, что существует разница между ним и его другом, который, показывая принадлежавшие ему гравюры, хвастается, что их тираж не превышает ста экземпляров, ибо доски, с которых они печатались, уничтожены для повышения цены. Перего не мог смотреть на эти гравюры без чувства смутного отвращения: ему все время мерещилось, как печатники крушат изготовленные ими же доски.
Его привлекали лишь книги, которые рано или поздно он надеялся прочесть. И каждая из них казалась ему путешествием в фантастический мир – в страну Гесперид и яблонь с золотыми яблоками, сверкающими в закатных лучах; далекий Лондон, с проносящейся по булыжной мостовой, вдоль домов и вывесок, коляской Пиквика; в безбрежный океан Мелвилла с марсовым, ныряющим с мачты жарким, удушливым днем. Образы эти, как бы ставшие частью его жизненного опыта, превращались в воспоминания; это он мальчишкой перелезая в лунные ночи через забор кладбища в «Мадам Бовари» или юношей выходил жарким вечером на улицы Петербурга, помышляя об убийстве старушки. Он переносился в иные века, в иные страны — в тенистую и прохладную долину Фемпе или в примостившиеся па вершинах холмов средневековые городки, убиравшие к вечеру подъемные мосты и таившие в себе целый мир полутемных улочек, наполненных гомоном их обитателей.
В книгах не только заключался смысл его жизни — сам акт их приобретения был связан с глубочайшими переживаниями, словно, приобретая книгу, Перего необъяснимым образом угадывал ее содержание, незримо проникал на ее страницы; и это отчасти компенсировало трагическую невозможность поглотить целую библиотеку, стать вместилищем Вселенной. В самом деле, ему удавалось побывать не во всех этих мирах, а лишь в некоторых, к другим он едва приближался, трепетно перелистывая тома, лаская их корешки, слегка прикасаясь к ним пальцами.
Знакомый врач не преминул поставить диагноз его страсти, заявив, что, по его мнению, Перего переносит на книги половое влечение. Такой взгляд на вещи показался учителю лестным и не менее правдоподобным, чем другой, пришедший ему вскорости на ум и заключавшийся в том, что он переносит на женщин любовь к книгам. Когда же ему возражали, говоря, что книги — это не что иное, как суррогат других удовольствий, он признавался, что заменяющие их радости вызывают у него непреодолимую скуку. К тому же само слово «радости» казалось ему теперь неуместным: он пережил любовные порывы в двадцать лет, испытал наслаждения, доступные людям тридцатилетнего и сорокалетнего возраста.
Позднее он составил себе представление и о том, что интересует человека в пятьдесят лет. В пятьдесят шесть он чувствовал себя уже усталым и, по крайней мере мысленно, решил отказаться от новых услад. Из любовниц с ним осталась лишь последняя — заместительница директора лицея. Это была крупная, монументальная женщина. Она обладала редкой, но важной для него добродетелью: никогда ни на что не жаловалась и ни в чем его не упрекала, не считала его ничем себе обязанным и не предъявляла никаких требований. Она охотно внимала ему, не проявляя особой заинтересованности, а в ее поведении была какая-то безошибочная интуиция животного. Инертностью и одновременно целеустремленностью своих движений она почему-то напоминала ему кашалота. Он многому научился, наблюдая за тем, как она хранит молчание, как, закрыв глаза, погружается в глубокий сон, как неохотно пробуждается к жизни.
Устав от прописных истин и отчая и поп лжи, рядом с ней он испытывал такое же чувство покоя, каким наслаждался в двадцать лет, когда, будучи офицером-кавалеристом, засыпал, накрывшись попоной, возле огромной кобылицы. Оп признался как-то в этом своей любовнице после долгих ребяческих колебаний, а она с улыбкой выслушала иго признание, никак не отреагировав, лежа в своей привычно неподвижной позе.
Она была по горло сыта бурными отношениями, которые подвергли суровым испытаниям ее способность обольщаться иллюзиями и привели к преждевременной дряхлости ее супруга. Среди ее любовников Перего давал ей не больше других, зато обманывал меньше. А это с возрастом кое-что значило. Она чутьем понимала, что «кое-что» ближе к истине, чем «все» или «ничего» И когда однажды она намекнула ему сквозь слезы на это, он не обиделся, не рассердился, не прикинулся равнодушным. Напротив, сам не зная почему, он пробормотал «дорогая» и погладил ее по голове. Она была ему благодарна.
Этот случай сблизил их еще сильней. Когда в то утро учитель проснулся среди книжных полок рядом с громадным, теплым, как печь, телом, ему показалось в предрассветной мгле, что близость смерти уже не так пугает его и он сможет без страха шагнуть в небытие.
* (с) перевод с итальянского Г. Смирнова