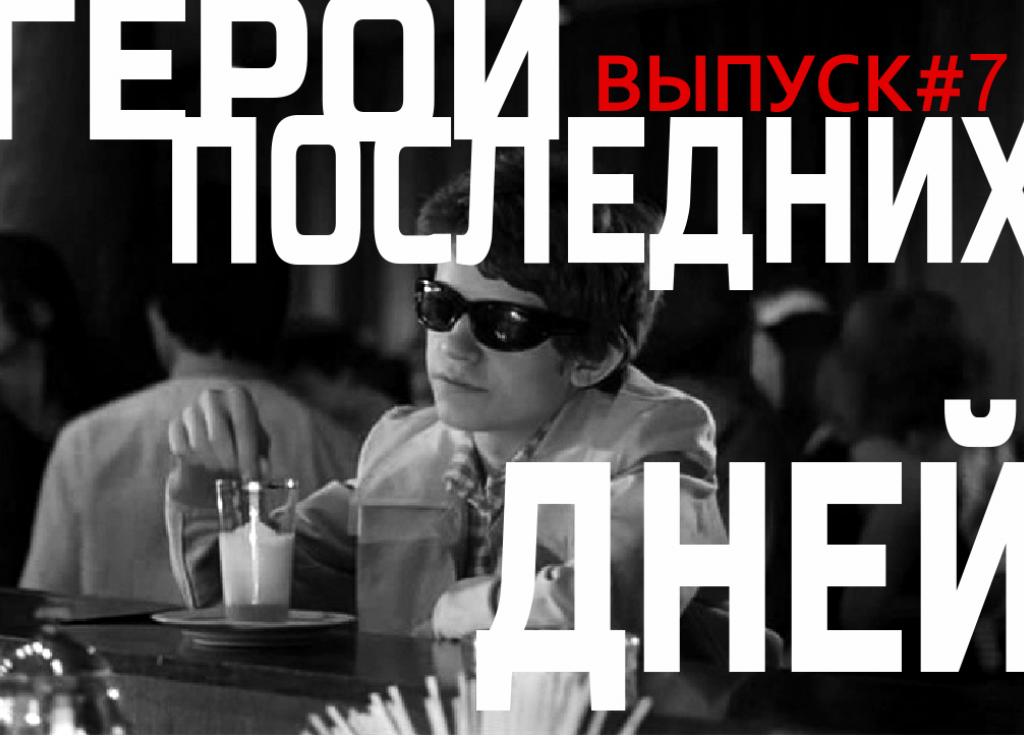11.04.18 03:04

Это маленькое эссе Яна Синебаса, скорей всего, по сути напоминает больше не литературоведческий, культурологический анализ романа, а своего рода путешествие «назад в прошлое» по методу, разработанному Владимиром Рафеенко на страницах романа «Долгота дней», издательство Фабула.
Новый роман Владимира Рафеенко это попытка осмыслить жестокую реальность, которая отторгает тебя от реальности, реальность уходит по другому пути, а ты как вечный парий бредешь другим. Это попытка обновить старые доминанты твоего сознания и мировоззрения, к которым ты привык, которые остались атавизмом с советских времен (например, что родина у нас одна, а столица – Москва, хоть и живет мы в другой стране, со столицей в Киеве). Это болезненный путь, для кого-то возвращения к утраченным и забытым/забитым истокам, для кого-то путь конструирования нового ценностного багажа и сознания. Есть и элементы пропаганды по законам военного времени, которую читатель принимает ,как вынужденный прием, прием самозащиты, во-первых, и, во-вторых, как такой прием, который более действенен в условиях изгнания и войны.
В первой части, прежде чем, уходить в глубь романных сюжетосплетений, я хотел остановиться на тех моментах, которые сформировали и до сих пор формирует так называемую местную ментальность, те мифы, которые управляют сознанием жителей, искажая реальность и влияя на будущее, которое вечно пугает, в отличии от прошлого, которое подпитанное ностальгией искаженной историей представляется для Донбасса «золотым веком». При всем при том, что в него уместились, красный и белый террор гражданской войны, поглощение Советам территорий, квазииндустриализация на коленях, 37-год, Вторая Мировая, рабский труд по восстановлению шахт, застой, боевые 90-е, нерентабельность шахт и все угольной промышленности с конца 60-х и пр. парадигмы сознания «шахтерский характер» в отсутствие представителей (истончения слоя работающих в угольном производстве). Другими словами реальность, породившая определенные мифы, давно канула в лету, а мифы продолжали доминировать в массовом сознание граждан.
В этой связи, в стилистике романа присутствует, своего рода компенсация для дальнейшего относительного комфортного существования сознания и тела в местной резервации. Компенсация, которая и сегодня, когда война и взрывы вытесняют актуальные мысли о будущем на задворки, цепляется за спасительное и комфортное «ах, как же раньше было хорошо!». Война же разделила тех, кто в состоянии освободится от плена «советских» насильственных иллюзий и тех, кто не в состоянии это сделать. Однако путь к освобождению лежит в иных метафизически областях, а не просто проложен асфальтом, на мариупольском, горловском, константиновском и пр. направлениях Донецкой области.
Владимиром Рафеенко, как настоящим алхимиком и магистром, укажет путь, через который прошел он сам и необходимо пройти всем, чтобы обрести новые смыслы и силы жить, творить и продолжать мир после себя. Речь идет о смерти/переходе, ибо чтобы стать христианином необходимо умертвить в себе эллина и иудея. Так, в нашем случае, чтобы стать гражданином, нужно убить в себе раба, чтобы стать украинцем, нужно убить в себе «советского».
писатель Владимир Рафеенко / Источник: www.lb.ua
Приметы города Z-цка
80-е гг.
Первый раз я побывал в Донецке в начале 80-х. Маленьким мальчиком, который еще ничего не понимал и готовился в школу, в первый класс, совсем в другом городе империи. Но уже тогда по промышленным степям Дешт-и-Кыпчака гуляли мифы. Первый – о том, что город построил Стаханов за две смены; второй – что город Донецк – это город шахтеров и третий миф гласил о том, что в каком-то году сам ЮНЕСКО признал скопление пыльных шахтных поселков самым зеленым городом мира. В 90-е к старым мифам добавились еще несколько: Донецк – это город антрацита, и Донецк – это город роз. На рекламных баннерах они – кусок антрацита и охапки красных роз – изображались вместе. И еще: еды было много, а, например, в Волновахе в старом сельмаге можно было купить французские духи. Идея о том, что сытый желудок и доступная колбаса позволят максимально долго сохранять существующий статус-кво продолжали быть действующей моделью поведения властей по отношению к населению. Да…
90-е гг.
Однако 90-е годы запомнились другими историческими событиями. Разгулом братков. Кто они, кем были? Местные или заморские, на каком языке говорили? А это те самые мальчики, которые смотрели добрые советские мультики, отдыхали в Артеках и прочих пионерских лагерях, учили уставы и вступали в ВЛКСМ, побеждали в хоккей, баскетбол и бокс, и верили в окончательную победу коммунизма, вдруг сразу испортились и превратились в «рэкетиров». Вот и верь теперь в светлое прошлое и в самое лучшее советское воспитание молодежи. На улицах города появились железные и холодные троллейбусы, яркие вывески бутиков, назойливая реклама компании «Дело Всех» (кто-то помнит такую?), а в руководстве города все чаще замелькали фамилии, которые еще пять-десять лет назад фигурировали в оперативных сводках ментов. Они с деятелями искусства и бизнеса, с ворами в законе выезжали на лоно природы рыбу поудить, кабанчиков пострелять и водочки со всякими балетмейстерами попить да закусить. Все смешалось в доме Облонских. Смешалось и гармонично стало существовать дальше, что отмечает Рафеенко, давая точный диагноз города. На старые советские схемы упало/легло, похоронив под собой будущее, криминально-полиэтиленовое (как мешок для трупа) покрывало. У Рафеенко это белый гульфик с метафорическим черным пенисом беспредельщиков. Мифы и приметы никуда не исчезали, не подминались более новыми и не аннулировались по приказу свыше. Они смешивались, создавая странные игры разума, сознания и подсознания жителей города. Слоенный пирог сознания и городского пространства, в котором центр определялся не классическим европейским градообразованием, а в результате специфического развития Юзовки: где шахта – там поселок, где поселок, там и центр.
«Да, это была она. Беспросветная, наглая, совковая. Не узнать ее вообще было невозможно. Она всегда оставалась здесь. За это время, которое понадобилось Советскому Союзу, чтобы пролитой кровью уйти в песок, эта лажа никуда не делась. В девяностых, когда акварельными мелкими лужами повсюду стоял медленно догнивающий коммунизм, в Z грянула криминальная революция. В город плотно, как черный пенис в белый гульфик, вошло инферно. Пульсирующей сетью упало на регион. Слилось с советской лажей, превращаясь в нечто третье.
С экранов телевизоров говорили о независимости Украины. А в Z зависимость становилась все сильнее. Она была тяжкая, почти наркотическая. Гибли люди, покидали регион выжившие, но сильно потрепанные бизнесмены и патриоты. Народ так просто не сдавался. Но зась, малята, зась.
Тримайтесь, співвітчизники, все ще має бути чудово, говорил с экранов телевизоров очередной президент страны. А жители Z просто исчезали. Их закапывали на заброшенных кладбищах. Стреляли в упор на бульварах, пронизанных невечерним светом. Закатывали в бетон, топили в прудах, вешали на деревьях в старых советских посадках. Их всасывал черный смерч, кружащийся над городом. …В город Z вступало инферно, а закаты были прекрасны. И время текло, как всегда, но теперь во главе угла стал не закон, но понятия.»
Этот кусок стоил того, чтобы привести его полностью. На мой взгляд, у региона была два важных события в истории, две родовые травмы. Первая связана с углем, со становлением угольной промышленности от царских и до советских времен. Эта угольная парадигма породила свое мировоззрение, свои мифы, свой характер, свою манеру жить/спасаться, говорить и думать про себя. Второй пункт, вторая травма или парадигма, доминирующая по сию пору связана с кризисом самого понятия промышленный регион во второй половине 20 века. Нерентабельность, отсталость, безысходность породили известную нам криминальную революцию в 90-х гг., сразу после падения советского режима. Силы «инферно», если выражаться терминами Рафеенко вырвались наружу из пластов, шахт, разработок и пр. шурфов-каналов, соединяющих наземное и подземное и поменяли все местами. В первый и во второй период своего исторического, социального и пр. онтологического развития население всегда ценилось на уровне оборудования и тех. Средств (а может, и еще дешевле), необходимых для добычи угля. Только во второй период, в годы «криминально-футбольной революции» люди перестали платить трудом, и перешли на более современные денежные расчеты.
И на сегодня можно сказать, что я не знаю про сегодняшний Донецк ничего, чтобы понимать, как в нем выживать. У Рафеенко это звучит так:
«Ты больше не знаешь этот город. Понятия не имеешь, как в нем жить и чего от него ожидать».
Это все, что я знаю про сегодняшний город Донецк.
«Ей снится окраина украинского города, окруженного степью. Здесь когда-то находился богатый рудник. Сейчас все заброшено. Если выпить водки и залезть на ближайший террикон, можно увидеть десятка два медленно разрушающихся домов. Трава и деревья доламывают остатки асфальта. Буйная поросль дикой сирени».
Опять речь идет не о территории, о материальном пространстве, а состоянии души, о территории души, многих людей, для которых степь это не дом или не просто дом, а место обитания души. Это еще замечено Гоголем, несправедливо названым не украинским писателем, еще в «Старосветских помещиках», такие же страницы есть у Чехова, в рассказах и повестях, где действие происходит в украинских степях богатых на метафизику видения и чувствования.
Антисемитизм как зеркало
Бытовой антисемитизм так легко был вписан в сознание степных, шахтных обывателей. Его можно внести в список местных грехов.
«Ведь говорил я ей, не бери чужого ребенка, психически ненормального, да еще и еврейского! Не бери жидовку!»
В первые годы независимости часто на посиделках с пивом и водкой под шашлык часто автору этих строк приходилось слышать один анекдот про двух кумов, которые собирались после того как хорошо «примут на грудь», пойти на улицу и бить евреев. И вот когда нужная кондиция достигала определенных высот или глубин и герои анекдота выходили на широкую дорогу, вдруг, в последний момент, один из корешей задавался философским вопросом: «Куме, а если они нас побьют?» На что второй вполне конструктивно и логично отвечал: «А нас за что?»
Впрочем этот грешок, если быть уж предельно честным распространяется далеко за пределы административной границы Донецкой области. Вот, например, у того же Виктора Шкловского, формалиста до мозга костей:
«На Украине видал я раз мальчика-еврея. Он не мог без дрожи смотреть на кукурузу.
Рассказал мне:
Когда на Украине убивали, то часто нужно было проверить, еврей ли убиваемый.
Ему говорили: «Скажи “кукуруза”».
Еврей иногда говорил :”Кукуружа”.
Его убивали.»
Рефлексы иерархического рабства, если тебя унижают, ты должен найти более слабого и компенсировать свое унижения от более сильным. Эта иерархия присуща Советскому Союзу, с ней сталкивался любой гражданин империи: в конторе, на заводе, в армии, в школе и, даже, в детском садике.
Донецкие жители узнаются по привычкам, раскиданным Владимиром Рафеенко по страницам романа:
«Коля допил остатки водки прямо из горлышка и с сожалением поставил пустую бутылку у ножки стола…»
Даже природные приметы:
«Придет с работы уставший отец. Мать встретит его у плиты. Барич проснется поздним утром, а в спальне стоит запах блинов. Он улыбнется высунет нос из-под одеяла, а за окном снег падает. Синий лучик дрожит в замерзшем окне. Впереди громадная жизнь, а вонйы нет, не было и уже никогда не будет.»
В первые мои донецкие годы были снежные зимы. Дома горела печь, за окном шел густой снег и засыпал город, дома мать, что-то варила или вязала, а живой отец собирался на работу или, наоборот, возвращался утром с третьей смены с завода «Норд», куда всегда отправлял экспресс №35 с ж/д вокзала.
00-е гг.
К началу нового столетия, нового тысячелетия, нового десятилетия шахтеры, как социальный слой исчезли, если в 90-е вы могли ранним утром встретиться с людьми с большими кепками-аэродромами на головах и, главное, с подведенными чем-то черным глазами, то через десять лет они просто исчезли. Поясню. После смены, шахтеры принимали душ и выходили в город, возвращались домой, кто на служебном, кто на общественном транспорте, так вот угольная пыль на веках очень трудно отмывалась, поэтому глаза казались подведенными какой-нибудь тушью. И очень часто у гостей города, такие пассажиры часто принимались за… кого-угодно, только не за шахтеров.
Свято место пусто не бывает. Исчезли с улиц и из салонов общественного, дежурного транспорта шахтеры, появились трактористы, а за ними матрешки цвета хаки. Как пионеров в свое время сменили рэкетиры, так и шахтеров сменили однажды буряты.
Долгота дней, роман. Издательство Фабула, Харьков, 2017
Стиль и стилистика как компенсаторская функция в период оккупации
Что касается стиля, то тут сложные многослойные напластования. Реализм, натурализм и магический реализм, road-movie, милитари-sci-fi, мистика или магия, связывающие индустриальный модерн и остатки архаичных знаний и привычек с постмодерном фрагментированным, лоскутным, рваным временем. А так же микс добротного классицизма второй половины 19 века, эпохи больших романов с постмодернистскими «тощими» романами второй половины века 20.
Роман сделан по новеллистическому принципу, объединенный темой любви к городу. Городу, который репрезентирован своими мифами и человеками в период гибридной войны и оккупации.
Во вставных новеллах, написанных от имени персонажей романа появляется реалистический стиль. И Рафеенко в одном из интервью говорит о том, что война – это предельно реальная штука, но это губительный реализм и он не спасает, «не излечивает» человека, прошедшего хаос войны. Поэтому в романе и миф, и сказка, и мистика, на которых лежит задача сгладить острое восприятие и болезненные последствия неправильного человеческого существования.
Это мифология 90-х прорвалась через стрельбу на улицах, смену мафиозных губернаторов и мэров города, сквозь расклеенные баннеры «Дело всех» и пр. развешанных/повешенных, забетонированных/застреленных/замученных по всем улицам, посадкам и шахтным поселкам 90-х.
«”Пятый Рим” – это, брат, не просто баня! – совершенно по-мефистофельски захохотал Маршак. – Это место силы! Пуп, как минимум Евразии!.. Тут старик Шубин правит бал! Атилла и нибелунги, Одетта и Одиллия, Оле Лукойе и Кецалькоатль, Красная Шапочка, Гудвин, Пиноккио, дерево Иггдрасиль. Здесь парнишка Один на ясене висит вот уже несколько тысяч лет и “Мальборо” курит.»
Баня метафора рая, точка-во-времени-до-войны. Оно и понятно. Баня – это мастерская, где можно делать не по лекалам корабли и самолеты. Баня – это твой письменный стол, за которым ты свободен писать все, что угодно не оглядываясь ни через левое ни через правое плечо. Баня – это еще особое место для шахтерского сознания, это место, где возрождаются после смены шахтеры-нибелунги, поднятые из угольного ада железными пастями лифтов. В банях города Донецка семя пролитое мимо миллионов утроб шлюх, уходило с водой и нечистотами под землю, где в залежах искристого антрацита произрастали монолитными глыбами мускулистые масленые нибелунги с коногонками вместо бронзовых щитов и мечей; там прорастал новым колосом, туго набитым зерном, новый смысл.
«…низкий умывальник здесь нужен потому, что в баню иногда заходят особые люди. Мужчины и женщины, они приходят в баню в сумерках. Это нибелунги, дети тумана, живущие в шахтерских выработках глубоко под землей.»
Можно уловить между строк существования других героев романа помимо главных. Это или туманы и запах степи, суеверия местных, и даже местные чудища индустриального фольклора – шахтеры-нибелунги, дети тумана и пр.
В бане происходит и следующий эпизод:
«И тут ты, Иван Иванович, открыл глаза и внезапно увидел рядом магистра Йоду из “Звездных войн” – единственного фильма, который ты мог смотреть в любое время дня и ночи. Мохнатый карлик с печально обвисшими ушами сидел в профиль к тебе и барабанил шестипалыми пальцами по зеленоватым коленям.»
Это эпизод перехода псковских спец- или псевдоназавцев в мир иной, в иную реальность, меняется и отношение автора к объекту своего романа, герой обретает черты субъектности, самостоятельности, собственного голоса и автор теперь обращается к нему лично и конкретно. С уходом в другую реальность истончается линия или дистанция между автором/читателем и персонажами, мы максимально близко подбираемся к ним, входим в них и ощущаем весь ужас «банного» перехода» в мир иной.
На память приходят все истории про баню, весь фольклор, в котором так или иначе, а баня подается, как мета-точка, точка невозврата и перехода. Например, чтобы окончательно умереть, как полагается окончательно, чтобы человека приняли там и отпустили здесь обязательно необходимо последнее омовение. Иначе душа вместо 40 дней так и будет безумной летать над городом, в поисках места, точки, колодца и пр. внешних проявлений перехода диалектически-гегельянского.
«А ты, смотрю, удивлен?! Оно и понятно, мертвец, да давний, - радость небольшая. Но я ненадолго. Пару вопросов к тебе имеется. Вопрос первый. – Связист задумался над формулировкой. – Что ты, сука такая, в Украине делаешь? Тебе что, падла, на родине места мало?! Или там повоевать не с кем?! – Дед выждал минутку, весело оглядывая мокрое, подрагивающее от переизбытка чувств тело внука. – Чего молчишь, уродец?!
Встреча с мертвым дедом. Это тоже праздник. У многих народов, например, 2 ноября. А какой это праздник, если дед твой покойный чихвостит тебя за опечатки и прочие недобрые дела из твоего послужного земного списка?
«- А что с Федей будет?
- С ним, что ли? – брезгливо глянул Егор Иванович на лежащее внизу тело… - Федька станет бобром средней полосы России… Будет хатки строить на крутых и обрывистых берегах… кушать будет строго осину или березу, в скоромные дни – тополь или иву. А на десерт теперь у него будет не марихуана с чаем, а кувшинка, ирис и рогоз».
Автор предельно корректен в рамках полученного воспитания или, наоборот, и врагам желает всего лишь перерождения, очередного круга сансары.
Если позволите такой определение стиля: псевдо-панк-поп-милитари-sci-fi. Например:
«На передовой жуки, кстати, тоже замечены неоднократно, когда, значит, мимо пролетали. Сразу решили: беспилотники натовские. Но потом присмотрелись – а это георгиевские жуки. – Василий помолчал. – Что сказать, друг мой, популяция растет! Сперва было четверо. А теперь летает с десяток тварей, не меньше. Четверо крупных и штук восемь таких, величиной со среднюю собаку. Молодняк, видно, пошел. В общем, наше счастье, что твари выбрали загород в качестве места концентрации проживания. Вопрос в том, как быстро они станут размножаться и как решат, что пора заниматься Z.
А это уже Гоголь:
«И вот приезжает некто на дребезжащем тарантасе и кричит неожиданно молодым голосом: “Ветошь! Тряпки! Покупаем тряпки! Ба-ра-хло! Ба-ра-хло!”».
«Матрешки России! Сколько их? Бессчетно. С первого взгляда кажется – мужик мужиком. Заглянешь поглубже, а сквозь него гражданин начальник просвечивает. Присмотришься вдумчивее, а там зэка с тремя ходками за плечами. Охнуть не успеешь, а зэка обернется солдатом, страшно уставшим от войн за последние пару столетий. И только потом заметишь, что в солдате, как в сундуке, мальчик деревенских спит, память потерявший. Его прабабку в сороковом из Украины на Урал угнали, а он знать об этом ничего не знает.»
Вся социальная стратификация российского люда, как она есть, только царя не хватает и гнилой интеллигенции, а так все слои на месте. Страшная метафизика про Украину, про матрешек в камуфляже.
И пару слов о крупной плане, как ни как, а роман втискивается в хрустящее ложе постмодерна. Крупный план присутствует с самого начала, в описании предметов, в «схватывании» их. Крупный план присутствует, но не доминирует, ибо преобладание такой крупности чревато большими потерями сознания и психики. Крупный план уравновешивается реализмом вставных новелл. Крупный план Рафеенко пытается противопоставить войне, что-то основательное, например, фарфоровый чайник в виде слоника. (К концу романа станет понятно, почему именно фарфоровый чайник в виде индийского слоника). Ведь точно могу сказать, что бомбежку и стрельбу легче пережить, когда смотришь на что-то пристально, «крупно» и эта крупность заполняет весь твой мир, «схлопнувшийся» во время бомбежки и стрельбы до микромира, всю твою заячью душу, изгоняя из нее звуки разрывов и страх смерти. Однако, память о таком пережитом может незаметно «приблизить» тебя к опасной черте невозвращения.
Лучший текст о войне. Это вам не Егор Присоскин или как его там?!
писатель Владимир Рафеенко / Источник: www.rian.com.ua
«Оставь надежды всяк…» здесь остающийся
Основной, если не главной темой, можно выделить авторский акцент на невозможности покинуть эти места. Раньше физически можно было покинуть приветливые асфальтированные степи Донецка, а теперь и физически город покинуть невозможно. Но и те, кто успел смыться в самом начале, под первые жужжания «градов», до сих пор в плену у города. Собственно, в некоторых интервью Владимир Рафеенко часто говорит о том, что он умер по дороге из Донецка в Киев и его уже нет. Того Рафеенко нет, который при вручение «русской премии в Москве» говорил, что столицей его государства является Киев, а столицей его родины и уже до конца жизни останется Москва. Э, как вышло. Не зарекайся там от чумы и… чего-то там еще. Все же полезно умирать по дороге или в дороге, дабы обрести новую жизнь. Чтобы не было больше ни эллинов, ни иудеев, а только были вокруг люди, настоящие люди. Иногда Мертвец бывает живее всех живых, Джармуш знает!
«- А знаешь ли ты, что Z стал местом, из которого уехать нельзя?»
Задается вопросом один из героев романа по имени и фамилии Василий Гиркавый, герой с той стороны, местный, но мечтающей о процветании «за поребриком», который считает Москву столицей своей родины-атлантиды. Так и вижу его молодым в 80-е комсомольским работником в киевском райисполкоме, потом, погрузневшего в 90-е бизнесмена, в двубортном пиджаке, и, наконец, в нулевые, постаревшего члена партии власти, в кабинетах и коридорах бывшего обкома-белого-дома (Bonus ниже).
« - Z захлопнулся, профессор!
- То есть?! – поднял брови Сократ.
- Выхода, говорю, нет!
- Имеешь в виду блокпосты и все такое?
Думаю, что блокпосты были чертой, которая отделяла пространство без времени от пространства с остатками смысла, - они остались где-то до Иловайска, Дебальцево и аэропорта.
«Запах цветов слишком насыщен. Он мешает дышать и жить. Густой аромат учащает пульс. Испарина и духота. Усилился вкус самых обычных продуктов – хлеба и пива. Сахар излишне сладок, чрезмерно соленая соль. От пронзительной синевы неба саднит лобные доли, подрагивают зрачки и хочется пить. Чрезмерными, обособленными, как долгая боль, стали звуки, чувства. Невыносимы половые акты. Разговоры, улыбки, музыка, ветер. Прекрасный мир в отсутствии гармонии».
Гиперболизация жизни, гипертрофия жизни. Жажда жизни – любой жизни. Невозможность жизни такой. Сама жизнь залечит себя, залижет свои раны и сахар сделает более сладким, а пиво вкуснее и хмельнее. Во вкусовых и обонятельных перцепциях Рафеенко кодирует крупный план жизни.
А в городе остались те, кто никогда не кричал что «Донецк – это Украина». Но столкнувшись лицом к лицу с «новороссами» производства «ссср», поняли, в чем прелесть украинской степи без колорадского жука.
Диалог двух кураторов недореспублик. Одного московского, а второго местного, «партийного», того самого, по фамилии Гиркавый.
«Для ясности замечу, что, кажется, вы до сих пор не посвящены в некоторые деликатные подробности нынешней военной кампании. Одна из них заключается в том, что перейти границу Z-анклава можно только приняв смерть. А между тем, ни в самой смерти, ни в переходе давно ничего тайного нет. Рабочие, так сказать, моменты… Да, наши люди границу пересекают вполне обычным способом. На машинах, поездах, пешком, в танках и самоходках, в машинах боевой пехоты, в «КамАЗах», автобусах и легковых автомобилях. Но в том-то и дело, - он (московский куратор – Я. С.) вкрадчиво блеснул стрелками очков, - вернуться обратно в Россию можно только приняв смерть! …То есть внешне ты такой же, но внутри – будто уже и не ты. Так что для рядового десантника Сидорова, который умирает в Луганске и тут вдруг открывает глаза в своей Вологде, Кинешме, Оренбурге или Саратове, ничего страшного не происходит. Он просто не помнит, что происходило до того.»
Это в точку. Там время не просто остановилось, его попросту нет. Выкрали его мумифицированные кошки мумифицированных фараонов.
«Так я ж и говорю, - терпеливо кивнул Маршак (московский куратор – Я. С.). – Столкнувшись с невозможностью прямой оккупации, мы перешли к операции «Бэкграунд». Не спрашивай о технических подробностях, скажу по существу. Задействовав современные мистико-информационные технологии, мы планировали присоединить Z к самому сердцу славянского мира, чтобы это ни значило. И кое-что у нас таки вышли. Отсюда особые свойства здешнего времени, социального, политического, лобачевского и римановского пространства».
Но лично у меня остался вопрос, что будет после деоккупации? Я имею в виду, жителей территорий Дешт-и-Кыпчак. Все ли «автоматом» обретут «новое тело»? или каждому жителю волевым усилием придется «убивать» себя, убивать в себе того хлебосольщика, раскрывающего объятия захватчикам с севера
Bonus (обещанный выше)
(фрагмент романа, не включенный автором в окончательную редакцию)
У нашей дорогой редакции оказалось в распоряжение уникальные материалы. Оцифрованные 16-миллимитровые пленки конца 70-х, VHS-кассеты и пр. видеоматериалы имеющие отношение к одному персонажу романа. К Василию Гиркавому. Кто такой Гиркавый? Давайте посмотрим уникальную хронику конца ХХ века. Перед нами почти вся генеалогия комсорга Гиркавого и таких как он. Итак, внимание на экран. Качество пленки – третья категория (почти утрачен цвет, царапины по эмульсии, «битая» перфорация. На экране торжественная встреча пионеров с ветеранами ВОВ, посвященная 45-летию освобождения Донбасса от немецких, итальянских и румынских войск. Значит, дело происходит осенью. Вот старшеклассник с красным галстуком на груди, с липким чубом на лбу. Звука, к сожалению нет. Но чувствуется, что он говорит очень возвышенно, протягивает вперед кулак и сотрясает им (наверное, декламирует стих – «Я убит подо Ржевом»?). Конечно, это Вася Гиркавый, он пока пионер, но уже готовится стать комсомольцем, для чего штудируется устав этой организации. Конец части, раккорд.
Теперь в большой студии донецкого государственного телевидения, что на Куйбышева, 61. Судя по оформлению студии и гуашевой надписи на большом куске плотного картона, это 80-е новое мышление и гласность в моде. «Перестройка – честь и совесть эпохи!!!» В кадре опять Гиркавый, он уже не мальчик и даже не подросток, это молодой человек в добротном костюме-двойке, привезенный из-за бугра или выменянный у фарцовщиков. Опять Вася говорит. Уже не так пламенно, но уверенно, убежденно в своей правоте. Он сидит за одним из столиков, в руках микрофон с длинным шнуром. Его пытается перебить оппонент за соседним столиком. Василий делает указующий жест на большое гуашевое слово «Перестройка…». Все аплодируют. Дальше пошел снег. Т.е. закончилась съемка и, на экране появился известный всем магнитный шум видеокассет.
И, наконец, третье видео. Улица города Z-ка. Митинг с импровизированной трибуной. На трибуне отцы города. У них за спинами растяжка с призывом голосовать за партию «Еда Регионам». Среди жителей расположились палатки с горками бакалейных товаров: гречка, сахар, консервы, сгущенное молоко. Среди выступающих вновь виден Василий Гиркавый, теперь это уже средних лет, прекрасно выглядящий мужчина в кожаной куртке и малиновых штанах. Слово предоставляется ему. Толпа аплодирует каждому слову. Василий делает свой фирменный жест в сторону плаката. Мальчики и девочки, то ли старшеклассники, то ли студенты, наверное, симпатики партии с партийными бейсболками и в футболках партийных цветов, раздают гражданам флажки и шарики бело-голубого цвета. Начинается концерт. На сцену выбегают девушки в блестящих лосинах и топиках. Конец материала…
Думаю, что любому думающему режиссеру не составит труда продолжить этот фильм о славном пути Василия Гиркавого. В него смело можно будет включить кадры выступления Гиркавого во время раздачи гумпомощи в оккупированном городе, плечом к плечу с московскими кураторами. А потом, уже после деоккупации, мы наверняка вновь увидим Василия в добротном костюме, рядом с президентом-освободителем и под желто-голубым прапором, он будет клясться в любви к Украине.
P.S. Во второй части, Жадан и сравнение двух романов «Интернат» и «Долгота дней, оксюмороны оккупации и гумпомощь из ГУЛАГа, саспенс на фоне терриконов и многое другое. Следите за публикациями.
Продолжение следует…
Ян Синебас
P.P.S. Во второй части я попытаюсь сравнить два романа на одну тему: война на Донбассе. Оба романа «свежие», оба автора по рождению принадлежат востоку Украины, Жадана родился в Луганской, а Рафеенко в Донецкой областях, приблизительно оба автора относятся к одному поколению, тех, кто родился в «ссср», а во взрослую, творческую жизнь вступали в 90-ее, в специфический период истории независимой Украины. И, конечно, оба романа – это реакция современных украинских авторов на войну, которую развязал «реинкарнирующийся» режим во главе с Вовой Крымским. Кроме этого сравнения, во второй части, затрагиваются вопросы