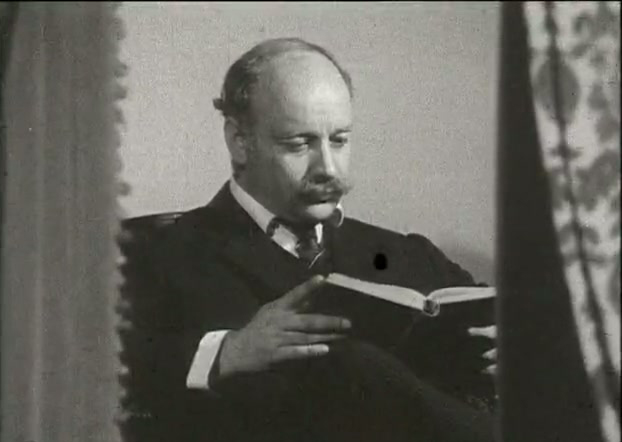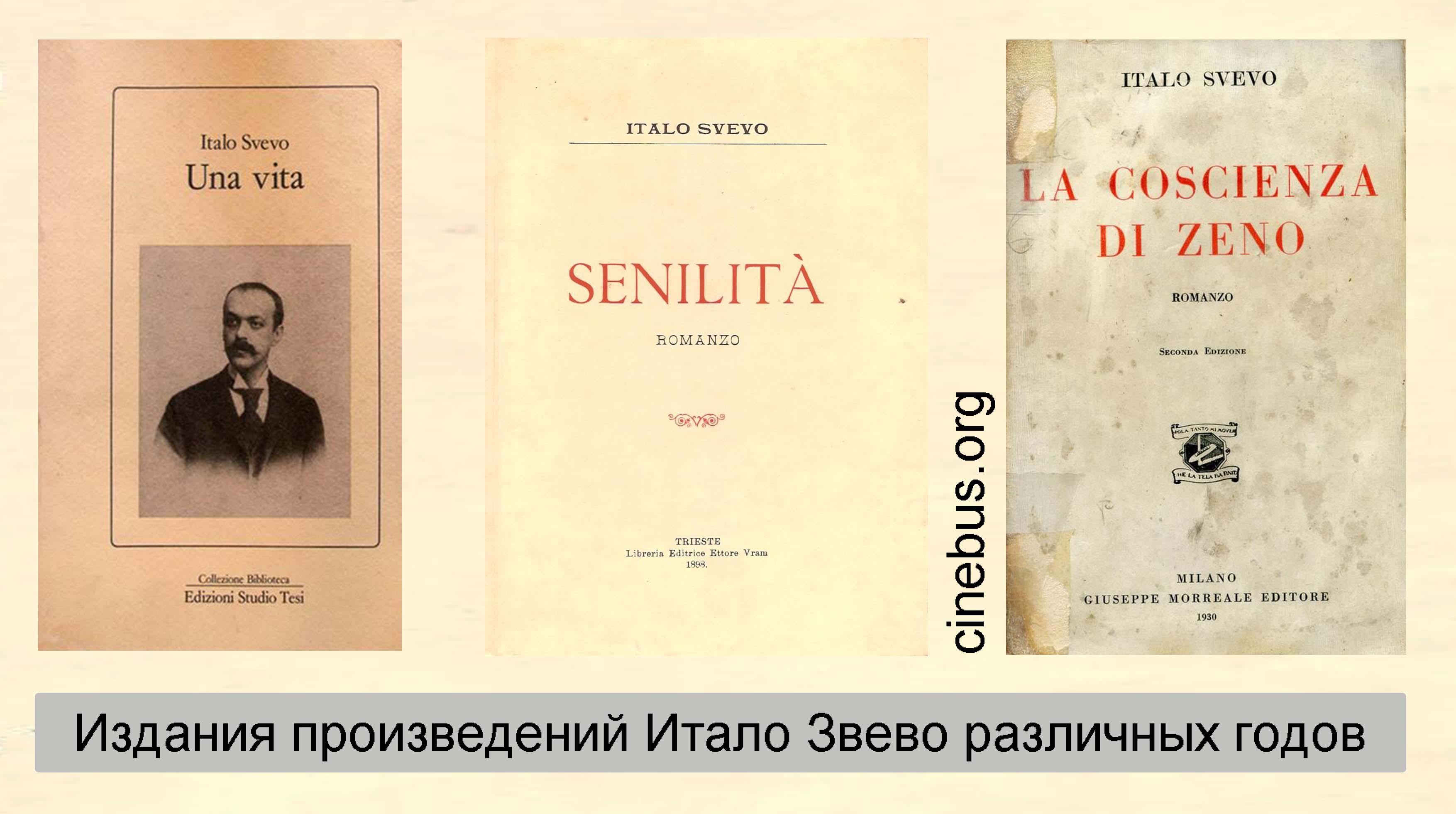09.07.18 12:07

«Я вижу — то смутно, то ясно — какие-то странные картины, которые не могут иметь никакого отношения к моему прошлому. Вот паровоз, который пыхтит на подъеме, таща за собой вереницу вагонов; кто знает, откуда он едет, и куда, и как оказался здесь!»
Итало Звево. Самопознание Дзено (1923)
(здесь и далее перевод С. Бушуевой, 1972)
«Минуты, которые проходят сейчас, может быть, и чисты, но такими, конечно, не были века, которые подготовили твое рождение.»
Итало Звево. Самопознание Дзено
Главным темами романа Итало Звево «Самопознание Дзено» являются проблемы времени, изменения в самоощущениях времени человеком, проблемы внутренних страхов, с открытием в человеке подсознания, ведь недаром в самом название романа есть что-то от психоанализа. Страх смерти, скоротечности времени, старения организма, зависимости от привычек, страх перед врачами, отцовско-сыновьи-материнские комплексы, мучительно-сладкие воспоминания детства – главные темы Итало Звево. Однако начнем мы с географии.
География тумана
«Когда я бывал в Триесте, мы виделись с ним не более часа в день.»
Город Триест был местом, где австрийская знать проводила скучные осенне-зимние месяцы, наблюдая за тем, как соки жизни медленно перетекают в молодые меха городской шантрапы. Вольный имперский город Триест был к тому же Меккой для коммерсантов всех мастей. Триест конца 19-начало 20 вв. можно сравнить с современными Гонконгом, Сингапуром, Макао. Думаю, что Томас Манн спокойно мог бы поселить своего Густава фон Ашенбаха не в Венеции, а в Триесте, что еще больше бы подчеркнуло увядание старого и надежного мира в новых рамках торговой и душевной территории офшоров.
Смесь наций и языков, религий и традиций, мод и кулинарных пристрастий, мобильность коммерсантская, банковская, требования быстро принимать решения, терпимость, порой вынужденная, ради выгоды и наживы, провинциальная отсталость создавали необходимый фон для Итало Звево (он же Этторе Шмиц) и его романа «Сампознание Дзено». Однако, странно, но сам город для писателя не интересен. Звево практически не включает пространство города в драматургию романа, город существует, за исключением некоторых районом обитания героев, как размытый фон. Нет деталей, а какое-то большое отстраненное описание. Только в части, где автор описывает свои отношения с любовницей Карлой, появляются ландшафты города, его жилые части-районы, парк. А до этого гомогенная мутная субстанция, которая, возможно была хорошо знакома Итало Звево, но нюансами, которой он решил не отягощать читательский багаж.
По сути, вся сюжетная ткань романа – это огромный прием у врача-психотерапевта. Автор и герои имеют дела с такими концентратами души, как сны, воспоминания, комплексы, чувства вины и обиды, страхи, и внешняя жизненная телесная оболочка ничего существенного не дополняла к имеющимся исходным данным.
Жизненный опыт или время истекло
«— Я, — сказал отец, по-прежнему глядя на погасшую сигару, — чувствую, как велики мой жизненный опыт и мое знание жизни. Не зря же человек живет столько лет! Я знаю ужасно много, но, к сожалению, не могу научить всему этому тебя, как бы мне этого ни хотелось! А как бы мне этого хотелось! Теперь я вижу самую суть вещей, я понимаю, что истинно и справедливо, а что нет.»
Особой характеристикой нового времени явился феномен невозможности передать по наследству своих знаний, профессии, жизненного опыта. Время менялось не настолько быстро, однако опыт отцов успевал устаревать и оказаться ненужным балластом в жизни детей. Это был маркер времени.
Вместо наследования опыта и жизненного пути своего родителя дети получали не изживаемое чувство вины за… Вот именно, за то, что нарушали столетние табу, за неповиновение.
«Он умер, и теперь я уже никогда не докажу ему свою невиновность!»
Отец не только не в состоянии передать свои знания и умения, в том числе, в силу отказа сына принять такие, но кроме этого, есть и другой комплекс проблем. Отец сам не в состоянии воспользоваться своим опытом в новых условиях новой реальности, и этим будут заражены все потомки нового времени, вирусом бездействия, а точнее болезнью бессмысленности любого действия. И тогда сын прибегает к верному способу, он прячется, уходит от реальности, но не пристает к берегу другой реальности, оставаясь где-то между… в щели, в зоне вненаходимости. Там, в зоне, смысл жизни нулевой, но и ответственности за ошибки и действия тоже нет.
В романе две смерти, связанные с отцами и еще один отец аргентинский, появляется эпизодично. Он жив, но так далек от ткани романа и жизни в романе, что ощущается почти мертвым, отсутствующим. Отец связан не только с жизненным опытом, но и обычным насилием, или, точнее, жизненный опыт связан с насилием над личностью, которое так и входит в человека через боль – физическую или душевную, оставляя раны для работы психитерапевтов.
Раньше с опытом и знаниями отцов, его профессией, цеховой честью, закостенелостью отношений и безвыходностью сын получал груз ошибок прошлого. Ответственность за ошибки переходила к сыну, в новых же условиях самоанализа и желания снять груз и напряжение, такая ответственность вела к ранней смерти рефлексирующего индивида. Время индивида было ограничено неосознанным, находящемся на уровне ощущения или чувства, понимания времени, как конечного ресурса. Это было новое. Это была тяжелая новость, больше никто не хотел тратить время на цеховые, родовые, семейные ошибки и балласты. Все ринулись в направление Фрейда, с жестко-осознанным желанием освободиться или стать свободным ото всех.
Модерн еще обладает огромной скромностью. В интимных местах (отношения героя с женой) нет и намека на описание первой брачной ночи. То, что не сделали газы Иприта и мясорубки на Марне, сделают газовые камеры Аушвица. Однако табу на семейные игры не распространяется на любовные игры в меблированных комнатах, распад преемственности не мог не сказаться и на интимной стороне жизни, и если табуированные стены еще выдерживали эротические удары, то жизнь на стороне, этот релакс социального напряжения, претерпевал изменения в подаче и степени (низкой) сокрытия интрижек. Итало Звево довольно часто в истории с любовницей Карлой подробно описывает, без физиологии, сексуальную, грубую агрессию героя по отношению к женщине или ее телу, которое входило в круг лечебных, психологических антидепрессантов. Пассивный секс с женой, ради репродукции и продолжения человеческого рода качественно изменялся в отношении любовниц. Человек вспоминал свою палеолитическую охотничью сущность, снимаю напряжение жестким половым актом.
Описание природного цикла в романе лаконично-конкретно. Утро, день, вечер, которые укладываются в более купный природный цикл – лето, например. Так было, так есть. Время у Итало Звево – это короткие временные фрагменты-перебежки, между одним событием и другим, между одним непередаваемым опытом и другим непередаваемым опытом. Разговоры наспех по истории христианства, музыкальные занятия, смерть отца, существование коммерческой фриковатой фирмы, любовная история героя с Карлой, посещение врачей, бракосочетательные поиски героя Дзено с тремя из четырех сестер поочередно – Ада, Альберта, Августа. И только маленькая Анна исключается из этого равнодушно-болезненного поиска Дзено. Сколько бы страниц ни занимало тот или ной эпизод в романе, безысходно возникает ощущение, что ему слишком мало отведено провидением или создателем времени. Оно быстро и скоротечно.
Короткое время, как конец жизни, а не просто конец истории. В романе, так или иначе, мы встречаем в финале какого-либо действия, эпизода, будь то мысли героя о смерти, смерть отца, не сложившаяся любовь к старшей Аде (как смерть чистого чувства), неудавшиеся коммерческие проекты героя и его друга Гвидо (как трата-убийство времени), гибель любви к Карле, неудачное лечение от табакозависимости (как разочарование в научном прогрессе, в данном случае, его медицинского вектора) и т.д., - встречаем такую характеристику времени, как конечность и истечение, израсходование. А заканчивается все войной, настоящей 1 мировой.
Писатель Итало Звево / Источник: artspecialday.com
Болевые ощущения модерна: страх и смерть
«Меня больно задела эта столь хорошо удавшаяся попытка представить меня в смешном виде. И вот тогда-то я и почувствовал в первый раз эту пронизывающую боль. В тот вечер она поразила правое предплечье и бедро. Я ощутил в этих местах сильное жжение, и по ним забегали мурашки, словно у меня вдруг свело нервы. Удивленный, я потер правой рукой бедро, а левой сжал больное предплечье.»
Боль на всю жизнь. После помолвки, после принятия ответственности и после грубого релакса с молодой любовницей. Боль физическая и психологическая, как возмездия за прямохождение. Боль, как мировоззрение эпохи модерна, предтеча мировых катастроф. Маленький очаг боли, связанные прежде с психикой, а не физиологией мутирует к середине ХХ века в огромную мироуничтожающую войну. Боль на всю жизнь.
Возмездием за свободу (тогда этот казалось свободой), за отказ от опыта и мировоззрение отцов, за разочарование в бесконечности времени, за уход в микромир боли. В сборнике «Америка» (Пропавший без вести) у Ф. Кафки одному из героев, которого зовут Карл (чистое совпадение), надевают униформу, лифтерскую форму, чтобы любому посетителю гостиницы были понятны функции служащего.
«…надев ее, он невольно содрогнулся – так жестко и зябко стиснул ему плечи форменный сюртук, к тому же под мышками неистребимо влажный от пота всех, кто носил его до Карла.» (перевод М. Рудницкого, 1991)
Освободившись от родовых связок и поруки, человек попал в плен иной. (К сожалению, термин условный и не точный, но менее категоричный и не упрощающий сложный комплекс сосуществования, соотношения человека и общества, человека и мира). Это была новая боль, незнакомая и не способная поддаваться на уговоры и лечение. Форма, сковывающая движения; время, необходимое потратить на госучреждения, законы, правила, распорядки, расписания – это боль модерна. Это мир, в котором победил индивидуализм, но пребывание человека наедине с собой может приравниваться к бесценным и редким дарам жизни модерн.
Герой Томаса Манна уже упомянутого романа «Смерть в Венеции» способен выйти из внутренних и родовых рамок любви, но не в состоянии дать или получить любовь. Ибо концепция романа меняется, из романа исключается конец или финал, если раньше любое произведение заканчивалось воссоединением любящих людей и свадьбой, возвращением героя, его победой над силами инферно, то теперь с этой финальной, для классиков и романтиков, натуралистов и веристов, точке все только начиналось и развертывалось на смутном фоне. В случае с Итало Звево, это туманный триестский топос, по которому вяло пыхтя, полз поезд, для красоты можно сказать, что это последний поезд последних тучных годов габсбургской империи.
Боль модерна это разрыв между потенцией свободного человека и итогом его жизнедеятельности. В сложный комплекс самоощущений и самопознания человека модерна входят страхи, рожденные гипертрофированными чувствами самозначимости и самоничтожности в усложняющемся мире.
«В течение нашего долгого путешествия по Италии я, несмотря на свое вновь обретенное здоровье, не сумел избежать и некоторых неприятностей. Мы уехали, не взяв с собой рекомендательных писем, и у меня часто бывало ощущение, будто среди окружавших нас незнакомцев находится множество врагов. Этот страх был смешон, но я ничего не мог с собой поделать. Любой мог пристать ко мне, оскорбить или — того хуже — оклеветать, и вступиться за меня было некому! <…>
Однажды я пережил настоящий приступ этого страха, но его, по счастью, никто, даже Аугуста, не заметила. Я имел обыкновение покупать все газеты, которые предлагали мне на улице. И вот когда я однажды остановился перед газетным прилавком, мне вдруг пришло в голову, что продавец просто по злобе может арестовать меня как вора, потому что купил я у него только одну газету, а под мышкой держал множество других, купленных в другом месте и даже еще не развернутых. И я ударился в бегство, а за мной побежала Августа, которой я никак не объяснил причину такой торопливости.»
Страх потерять лицо, оказаться не тем, кем являешься, страх быть смешным. Возросшие самозначимость и самомнение требовали свои жертвы на алтарь антропцентризма, а точнее «Сверх-Я», теперь не только род и семья следили и контролировали человека, но, о, ужас! он сам являлся сторожем себе и оценщиком собственным поступков. Теперь человек бесконечно требовал доверия к себе, которое невозможно было получить без веры и уверенности в собственных поступках и делах, без веры в себя. Новый цензор или судья оказался злее библейского архаичного ментора.
Появляются нигилистические страхи, связанные со здоровьем, поскольку лишь здоровый обладал правом вступить в будущее. Здоровое тело придавало уверенности и ценность в собственных глазах и в глазах общества, с которым связан был индивид. Тело сопротивлялось страху старения, а через это человек боролся со страхом смерти. Вот почему в романах пропал финал. В эпоху модерна смерть стала не к лицу человечеству. Искусство романа или антиромана стало сопротивляться смерти.
Наши библиотеки, музеи, архивы, искусство – все было поставлено на службу resistance.
«Страх состариться, и прежде всего, страх смерти.»
Страхи, связанные со временем, запустили великий эксперимент по консервации времени.
«Но мне так и не удалось избавиться от страха перед старостью — все-таки я боялся, что моя жена достанется другому. Этот страх нисколько не уменьшился, когда я ей изменил, и нисколько не увеличился при мысли, что я таким же образом могу потерять и любовницу.»
Материя умирает и наследуется другим. Здесь в этом отрывке, как по мне, фиксируется не ревностно-собственнические отношения между человеками разного пола. Я читаю здесь другое. Свято место пусто не бывает. Вместе с возросшей значимостью европейского сознания идет обратный процесс: нивелировки человеческой сущности. Ярко это было проявлено в новой колониальной политике европейских держав, чьи человеческие сливки были способны рассуждать о пангуманизме, утомляясь от жары в своих офисах в Адис-Абебе или в Алжире. Гуманизм и слоновая кость не имели общего денежного и морального измерения, поэтому шли параллельными путями в сторону «прогресса».
Теперь можно сказать, что были компенсаторские практики. Ведь если я не вечен, несмотря на занятия спортом и туризмом, я могу выработать новую этику сопротивления времени. Систему замещения. Вместо меня будет другой, займет мое место, будет идти дальше. А значит, и я могу занять чье-то место и идти дальше после смерти. В музее, в архиве, на целлулоиде, в романе. Итало Звево наряду с редкими умами: Джойст, Пруст, одним из первых почувствовал это.
«Усталость мира», напрямую связанная с ренессансным восхождением к концу 19 века, породит революции начала века 20 и оголтелую веру в прогресс и линейное время, которое разобьется о печи Освенцима и трухой надежд смешается с пеплом из камер. Эпоха раннего модерна, который стал подводить итоги к концу 19- началу 20 вв. одной из вех стала 1 мировая. Пустяк, рыцарский жест самопожертвования Гаврилы Принципа, оскорбление, священное убийство (эрц-герцога Фердинанда), как причина к войне не имела ничего общего с ранним модерном. Как коллизия, как толчок к действию, к драме такой поступок вписывается в логику событий и человеческого мышления в средние века, до момента складывания антропоцентричного и секулярного мира в Европе.
Мертвые воины попадают в Вальхаллу. Какой средневековый школьник не знал об этой истине? Отзвук этого отношения к смерти слышится в следующей фразе романа.
«Мертвые не бывают грешниками. Гуидо отныне был чист. Его очистила смерть.»
Но это отношение модерна к мертвым стало мандатом на многомиллионные убийства во имя… Как и в романе у фразы нет конца. Все зависит от потребностей и момента времени, в какой точке бытия зависло это троеточие? Отсюда рост смертей на войнах и просто в мирной жизни.
«Я знал, какая это мука — угрызения совести на могиле! Я сам столько страдал после смерти отца.»
Вместе с любовью к жизни, к ее жадным увлечениям и наслаждениям, человек выработал привычку (самоанализ ему в помощь) критиковать жизнь, критиковать до кипящей точки любви к смерти. Человек полюбил смерть потому, что жизни ему мало для удовлетворения всех его потребностей.
Жизнь приравнивается к смерти, она трудна, как смерть. Параллель смертей, в которой живым было хуже, чем ушедшим в смерть.
Антифинал
Последняя часть – начинается детскими воспоминаниями. Они не в начале романа, а в финале, в условном финале романа. И если предыдущие части романа были написаны в жанре эпистолярно-дневниковом, то в последней части Итало Звево этого мало и он укрепляет жанровые рамки добавлением дат. Теперь читатель точно знает, в какой из дней 1 мировой войны сделал запись герой романа Дзено Козини. И теперь читатель может вспомнить и сравнить свои действия в этот памятный день. И совсем не важно, что кого-то в этот день не было на свете, или у кого-то плохая память.
3 мая 1915 года.
«Комната была вся белая, я никогда не видел такой белой, такой залитой солнцем комнаты. Может быть, в те времена солнце проходило сквозь стены?»
Солнце, мама и какао – знакомые детские концентраты, некоторые ощутимо присутствуют в творчестве Владимира Набокова. Это отличительная черта модерновой литературы, тоска по прошедшему, которое вечно будет фантомом будущего.
Итало Звево с семьей / Источник: corriere.it
3 мая 1915 года.
«Добавлю еще, что женщина казалась мне единым целым с ее черным платьем и лаковыми туфельками. Все это была она! И ребенку снилось, будто он обладает этой женщиной, но самым странным образом: он знал, что может съесть ее по кусочку всю — с головы до пят.»
Образ женщины, матери, которой он хочет овладеть не через секс, а через гастрономию. Съесть ее. Раньше секс был сродни жизненному опыту, минимум изящества, максимум практичности (продолжение рода). Так же обстояло дело и с приемом пищи. Теперь же и секс и пища – это в высшей степени атрибуты экзистенции, наполненной и осмысленной через соответствующие ритуалы.
Детские воспоминания всегда монтируются со старостью. Если речь идет об образе, запечатленном в памяти, в глубинном детском бессознательном, значит герой произведения уже старик. Такие образы выплывают на поверхность, когда память больше не вмещает ежеминутных, сегодняшних впечатлений и начинает жить обособленно, начинает жить воспоминаниями.
Пожилой Дзено, все еще герой романа Итало Звево, оказавшись на линии фронта странной (по сравнению с ее итогом, с многомиллионными потерями) войны, накануне конца раннего модерна, мечтает о другой (еще одной) жизни в образе крестьянской девочки Терезины, которая отвергает его притязания на продолжение жизни.
15 мая 1915 г.
«— А когда же ты займешься старичками? — громко крикнул я, желая, чтобы она, уже ушедшая далеко вперед, меня услышала.
— Когда сама буду старая! — прокричала она в ответ, весело смеясь и по-прежнему не останавливаясь.
— Но тогда ты будешь им уж не нужна. Поверь мне! Уж я-то стариков знаю!»
Финал романа, когда герой отправляется за чем-то (на самом деле не имеет значение причина его перехода) за реку и уже не может вернуться назад на виллу, где осталась его семья: жена с дочкой. Это открытый финал модернового романа, где сам финал, как драматургическое завершающее действие не имел никакого значения, как впрочем, и сюжетно-фабульное развитие, качественные изменения героев, состав событий и прочие хронологические или асинхронологические действия. По сути дела мы видим переправу мертвых через реку, однако, в начале 20 века мертвым Харон не нужен, они сами в состоянии перебраться на тот берег.
"Зачем желать излечения от нашей болезни? Должны ли мы на самом деле отнимать у человечества лучшее, что у него есть? Я твердо верю, что мой истинный успех, давший мне мир, состоял в том, что я пришел к этому убеждению. Мы живой протест против смехотворной концепции сверхчеловека, какой она была нам навязана…"
В этом бегстве накануне большой войны есть что-то эпическо-героическо-одиссейное, словно вырванное из трагедий античных классиков. Империи, сохранившиеся огромными реликтами на европейских полях, имели одно маленькое, но качественное преимущество. Житель любой из них постоянно ощущал в себе корни, которые держали его и давали уверенность и пищу, даже тем, у кого была своя черта оседлости. Можно было сняться и поехать прочь от своего города, местечка, штетла и не пересекая границ оказаться в новом месте, но не чувствовать своей удаленности от корней. Итало Звево в финале романа предчувствовал и предсказал кочевническую сущность европейского завтра. Дзено отправляется в свое короткое путешествие, чтобы поглядеть на прелести молодой Терезины, еще не понимаю, что назад он никогда не сможет вернуться. Отныне он номад, без корней, без дома, без семьи. Война, революция, как ледоход, снеся не только границы империи, вбив множество мелких кольев, вместо одной границы, расселит миллионы, раскидает семьи и народы и тела по болевым точкам 20 века, по Верденам, Герникам, Эль-Аламейнам, Сталинградам, Гулагам, Аушвицам, Прагам, Сребреницам, Донецкам.
(с) Ярослав Васюткевич